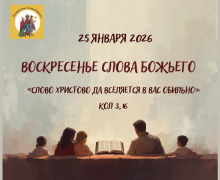Dilexit nos. Энциклика Святейшего Отца Франциска о человеческой и божественной любви Сердца Иисуса Христа
Энциклика
Dilexit nos
Святейшего Отца
Франциска
о человеческой и божественной любви
Сердца Иисуса Христа
1. Он возлюбил нас — говорит святой Павел о Христе (ср. Рим 8, 37), и любовь эта такова, что от нее ничто «не может отлучить нас» (Рим 8, 39). Павел говорит об этом так уверенно, поскольку Сам Христос сказал Своим ученикам: «Я возлюбил вас» (Ин 15, 9.12). И сегодня Он говорит нам: «Я назвал вас друзьями» (Ин 15,15). Его сердце открыто для нас, оно предваряет и ожидает нас, прося лишь о том, чтобы мы позволили Ему предложить нам Свою любовь и дружбу. Ибо «Он возлюбил нас» (ср. 1 Ин 4, 10) и через Него «мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее» (1 Ин 4,16).
I.
Значение сердца
2. Символ сердца часто используется, чтобы выразить любовь Иисуса Христа. Сегодня многие сомневаются, что этот символ все еще имеет смысл. Однако именно сегодня, когда мы сталкиваемся с искушением поверхностности, когда мы живем «на бегу», — сами не зная куда и зачем, — когда мы становимся ненасытными потребителями и рабами рыночных механизмов, которым нет дела до смысла нашего существования, нам как никогда необходимо заново открыть значение сердца. [1]
Что такое «сердце»?
3. В классическом греческом языке слово kardía означает самую глубинную часть людей, животных и растений. У Гомера оно указывает на центр не только тела, но и души, на духовное средоточие человека. В «Илиаде» мысли и чувства исходят из сердца и в нем переплетены друг с другом. [2] Сердце предстает как центр желаний, место, где человек принимает важные решения. [3] Согласно Платону, сердце объединяет разумные и инстинктивные аспекты личности, поскольку импульсы как высших способностей, так и страстей передаются по сходящимся в сердце сосудам. [4] Таким образом, с древнейших времен было очевидно, что человек — не просто сумма различных навыков, а единство души и тела с объединяющим их центром, придающим смысл и направленность всему, чем живет личность.
4. Библия говорит, что «слово Божие живо и действенно […] и судит помышления и намерения сердечные» (Евр 4, 12). То есть, Писание также говорит о сердце как о ядре, которое находится глубже всего внешнего, в том числе и смущающих нас поверхностных помыслов. Во время таинственного путешествия с воскресшим Христом идущие в Эммаус ученики пережили мгновения тоски, смятения, отчаяния и разочарования. Но, кроме этого и вопреки этому, нечто происходило в их глубине: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге» (Лк 24, 32).
5. Сердце — это также место искренности, где невозможны ни обман, ни притворство. Обычно оно обнаруживает наши истинные намерения, то, что мы на самом деле думаем, во что верим и чего желаем, те «тайны», которых мы никому не выдаём, одним словом, всю голую правду о нас. Это та часть нас, которая не лукавит и не лжет, нечто подлинное, реальное, глубоко личное. Вот почему Далила спрашивает Самсона, скрывавшего от нее тайну своей силы: «Как же ты говоришь: «люблю тебя», а сердце твое не со мною?» (Суд 16, 15). Лишь когда он открыл ей свою сокровенную тайну, она увидела, что «он открыл ей все сердце свое» (Суд 16, 18).
6. Эта истина внутри каждого человека часто скрыта под большим количеством покрывающей ее «шелухи», поэтому так трудно с уверенностью познать себя и тем более другого человека: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иер 17, 9). Из этого мы понимаем, почему книга Притчей увещает нас: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя» (4, 23–24). Лицемерие, притворство и обман повреждают и извращают сердце. Вопреки любым попыткам изобразить нечто, чем мы не являемся, наше сердце — это истинный судья: не того, что мы изображаем для других или скрываем от них, а того, кто мы есть на самом деле. И в этом смысле сердце — это основание любого надежного жизненного проекта, поскольку без сердца невозможно построить ничего стоящего. Двуличие и ложь в итоге всегда оставят нас с пустыми руками.
7. В качестве метафоры позвольте мне напомнить вам историю, которую я как-то уже рассказывал по другому поводу: «В детстве во время карнавала бабушка пекла нам пирожки из тонкого слоеного теста. Когда она бросала полоски теста в масло, они раздувались, но затем, когда мы надкусывали их, внутри оказывалась пустота. На нашем диалекте эти пирожные назывались “лжецами”. И бабушка объясняла, почему: “Как любая ложь, снаружи они кажутся большими, а внутри у них ничего нет, ничего подлинного, ничего настоящего”». [5]
8. Вместо того, чтобы искать поверхностного удовлетворения и играть роль перед другими, важно позволить себе столкнуться с по-настоящему важными вопросами. Кто я такой на самом деле? Чего я ищу? Какой смысл имеет моя жизнь, мой выбор, мои поступки? Почему и для чего я живу в этом мире? Что я хочу увидеть, оглядываясь на свою жизнь, когда она подойдет к концу? В чем смысл всего, что я переживаю? Кем я хочу быть для других? Кем я хочу быть перед Богом? Все эти вопросы возвращают меня к моему сердцу.
Возвращение к сердцу
9. В нашем текучем мире необходимо заново говорить о сердце и размышлять об этом центре, где обретает свое единство каждый человек любого сословия или состояния; где находится источник и корень всех наших сил, убеждений, страстей и решений. Но мы, часть общества безостановочного потребления, живем изо дня в день под властью бешеного ритма и шума технологий; у нас нет терпения, необходимого для процессов, которых требует внутренняя сущность. В сегодняшнем обществе люди «рискуют утратить центр, центр самих себя». [6] «Современный человек часто оказывается растерянным, разделенным, почти лишенным внутреннего начала, придающего единство и согласие его существу и его поступкам. Распространенные поведенческие модели, к сожалению, преувеличивают либо наше рационально-технологическое измерение, либо, напротив, инстинктивное». [7] Тогда как сердце отсутствует.
10. Хотя текучесть нашего общества — это актуальная проблема, однако обесценивание сокровенного центра человека — его сердца — имеет долгую историю: мы встречаем это уже в эллинистическом дохристианском рационализме, затем в постхристианском идеализме и в материализме в его различных проявлениях. Сердцу уделялось мало места в антропологии, это понятие чуждо великим философским системам, предпочитавшим понятия разума, воли и свободы. Само значение термина «сердце» неясно, его непросто вписать в человеческий опыт. Возможно, это связано с тем, что сердце трудно отнести к числу «ясных и отчетливых» идей, или же с трудностью самопознания как такового: самая внутренняя реальность оказывается одновременно и самой удаленной с точки зрения познания. Возможно, это объясняется тем, что встреча с другим не обязательно ведет к встрече с собой, поскольку мышление склонно к нездоровому индивидуализму. При построении интеллектуальных систем многие ощущали себя более уверенно в категориях интеллекта и воли, поддающихся сознательному контролю. И поскольку для сердца как чего-то отдельного от прочих человеческих способностей и страстей не нашлось места, в конечном счете не получила широкого развития сама идея личностного центра, где пребывает единственная реальность, способная все объединить, — любовь.
11. Если обесценивается сердце, то теряют смысл и такие выражения, как «говорить от сердца», «руководствоваться сердцем», «взрослеть сердцем», «беречь сердце». Когда особенности сердца не принимаются во внимание, мы не находим ответов, поскольку один лишь разум не способен дать нам их, и мы утрачиваем встречу с другим, мы утрачиваем поэзию. И мы теряем также историю, свою историю, потому что подлинно личное приключение всегда начинается с сердца. И в конце концов только это будет иметь значение.
12. Нам необходимо заново утвердить, что у нас есть сердце, и что наше сердце существует наряду с другими сердцами, которые помогают ему быть «ты». Поскольку здесь мы не можем в полной мере развить эту тему, приведем для примера персонажа романа Достоевского «Бесы» Ставрогина. [8] Романо Гуардини описывает его как воплощение зла именно потому, что его главной чертой является отсутствие сердца: «У Ставрогина нет сердца, поэтому дух его холоден и лишен наполнения, а тело отравлено ядом бездеятельности и “звериной” чувственности. Поэтому для него закрыт путь к другому человеку, а для другого — подступы к нему. Ибо близость создается сердцем, а не чем-то иным. Только сердце пролагает мне путь к другому, а ему — ко мне. Лишь сердце разрешает войти и поселиться. Сокровенное есть сфера действия сердца. Ставрогин же далек от всех и каждого […] Не дано Ставрогину преодолеть и дистанцию, отделяющую его от него самого. Человек тождественен себе в сердце, но не в духе. Тождество в духе — не его дело. Если же сердце не живет, то человек теряет доступ к самому себе и утрачивает тождество». [9]
13. Необходимо, чтобы все наши поступки были подчинены «господству» сердца, чтобы агрессия и навязчивые желания усмирялись бóльшим благом, которое предлагает сердце, и силой, которой оно обладает против зла. Интеллект и воля должны служить ему, ощущая и пробуя истины, а не желая господствовать над ними, как это делают некоторые науки. Воля должна стремиться к большему благу, которое познается сердцем, и даже воображение и чувства должны умеряться биением сердца.
14. В конечном счете можно сказать, что я — это мое сердце, потому что именно оно отличает меня, образует мою духовную идентичность и созидает мое общение с другими. Алгоритмы, работающие в цифровом мире, показывают, что наши мысли и движения воли гораздо более «стандартны», чем мы думаем. Они легко предсказуемы и поддаются манипуляции. С сердцем все иначе.
15. Слово «сердце» оказывается важным для философии и теологии, когда мы пытаемся достичь интегрального синтеза. Его смысл не может быть исчерпывающе объяснен ни биологией, ни психологией, ни антропологией, ни какой-либо другой наукой. Это одно из тех первичных слов, «которые указывают на реальность, принадлежащую всему человеку как единству души и тела». [10] Нельзя сказать, что биолог, когда тот говорит о сердце, более реалистичен, поскольку он видит лишь часть, тогда как целое не менее, а более реально. Даже абстрактный язык не может иметь столь же конкретного и общего значения. Если «сердце» указывает на сокровенный центр нашей личности, то оно также позволяет нам познать себя во всей полноте, а не только в каком-то отдельном аспекте.
16. С другой стороны, уникальная сила сердца помогает нам понять смысл выражения, согласно которому, познавая реальность сердцем, мы познаем ее лучше и полнее. Это неизбежно приводит нас к любви, на которую способно сердце, потому что «любовь есть самый сокровенный фактор реальности». [11] Для Хайдеггера, согласно интерпретации одного современного мыслителя, философия начинается не с чистой концепции или уверенности, а с эмоционального потрясения: «Мышление, прежде чем оно сможет работать с понятиями или когда оно работает над ними, должно быть захвачено. Без этой захваченности мышление не может начаться. Первый мысленный образ — это мурашки по коже. Захваченность это то, что заставляет нас думать и задавать вопросы: “Философия осуществляется всегда в некоем фундаментальном настроении (Stimmung)”». [12] И здесь появляется сердце, которое «вмещает настроение, выступает “хранителем настроения”. “Сердце” неметафорическим образом прислушивается к “безмолвному голосу” бытия, позволяя ему достичь внутреннего согласия и обрести свой голос [stimmen und be-stimmen]». [13]
Сердце соединяет осколки
17. Одновременно сердце делает возможной любую подлинную связь, поскольку отношения, не идущие из сердца, неспособны преодолеть раздробленность, порожденную индивидуализмом: это будут лишь две монады, которые сближаются, но не связываются друг с другом по-настоящему. «Антисердце» — вот определение общества, в котором все больше преобладают нарциссизм и эгоцентризм. В конце концов мы приходим к «утрате желания», потому что Другой исчезает с горизонта, а мы замыкаемся в собственном эго, неспособные к здоровым отношениям. [14] В итоге мы не можем открыться для Бога. Как сказал бы Хайдеггер, чтобы принять божественное, нужно «основать в себе гостиницу». [15]
18. Мы видим, таким образом, что в сердце каждого человека возникает эта парадоксальная связь между самопознанием и открытостью для другого, между предельно личной встречей с самим собой и дарением себя другому. Вы становитесь собой только обретая способность узнать и признать другого, в свою очередь способного узнать и признать вашу личность.
19. Сердце также способно придать единство и согласие нашей личной истории, которая иногда кажется разбитой на тысячу частей, но в сердце обретает смысл. Это то, что в Евангелии имеется в виду под взглядом Марии, смотревшей сердцем. Мария умела беседовать со своими переживаниями, размышляя о них в своем сердце и давая им время, чтобы, актуализируя и соединяя их внутри себя, сохранять их в памяти. В Евангелии от Луки есть два отрывка, которые лучше всего выражают, что значит «думать сердцем»: они говорят, что Мария «сохраняла (syneterei) все слова сии, слагая (symballousa) в сердце Своем» (Лк 2, 19; ср. 2, 51). Глагол symballein (от которого происходит слово «символ») означает обдумывать, соединять вещи в уме, исследовать себя, размышлять, вести диалог с собой. В Евангелии от Луки 2, 51 dieterei означает, что «она сохраняла», но сохраняла не только «сцену», которую видела, но и всё, чего она еще не понимала, оставаясь при этом присутствующей и живой, ожидающей, чтобы соединить всё в своем сердце.
20. В эпоху искусственного интеллекта нельзя забывать, что поэзия и любовь необходимы для спасения человечества. Есть вещи, которые не сможет учесть ни один алгоритм — например, мгновения из детства, которые вспоминаются с нежностью, и которые, сколько бы ни прошло времени, продолжают происходить сейчас в каждом уголке планеты. Я вспоминаю, как мы учились вилкой скреплять края домашних пирожков, которые пекли наши мамы и бабушки. Это опыт участия в приготовлении еды, на полпути между игрой и взрослой жизнью, когда ты учишься брать на себя ответственность за труд, чтобы помогать другим. Как и на примере с вилкой, я мог бы вспомнить тысячи маленьких деталей, из которых складывается биография каждого человека: это шутка, от которой расцветают улыбки на лицах, первый футбольный матч, сыгранный тряпичным мячом, червяки для рыбалки в коробке из-под обуви, засушенные между страницами книги цветы, спасение выпавшего из гнезда птенца, желание, которое загадываешь, обрывая лепестки ромашки. Все эти маленькие детали, такие обыкновенные и необыкновенные, никогда не смогут уместиться в алгоритмы. Потому что вилка, шутка, окно, мяч, коробка, книга, птица, цветок — все это связано с нежностью, сохраняемой в воспоминаниях сердца.
21. Ядро каждого человека, его самый сокровенный центр — это ядро не души, а именно всей личности в ее уникальной идентичности, состоящей из души и тела. Все это соединяется в сердце, которое может стать вместилищем любви со всеми ее духовными, психическими и даже физическими составляющими. В конечном счете человек становится собой в полном смысле, только когда в его сердце царит любовь, потому что каждый создан прежде всего для любви. В самой своей глубине человек сотворен, чтобы любить и быть любимым.
22. Поэтому, когда мы видим, как одна за другой следуют новые войны, при соучастии, попустительстве или безразличии других стран, из-за борьбы за власть или партийных интересов, может показаться, что мировое общество стало бессердечным. Достаточно увидеть и услышать старых женщин с разных враждующих сторон, ставших заложницами этих разрушительных конфликтов. Сердце разрывается, когда видишь, как они оплакивают своих убитых внуков, когда слышишь, как они желают себе смерти, потому что лишились дома, где прошла вся их жизнь. Они, в течение всей своей трудной и жертвенной жизни бывшие примером силы и стойкости, теперь, на склоне дней, находят не заслуженный покой, а тоску, страх и гнев. Перекладывание вины на других ничем не облегчает эту постыдную драму. Видеть, как плачут бабушки, и не ужасаться этому, — вот признак бессердечного мира.
23. Когда мы думаем, ищем, размышляем о своей сущности и идентичности, когда пытаемся ответить на вечные вопросы, когда думаем о смысле своей жизни, когда ищем Бога, и даже когда нам кажется, что мы прикоснулись к истине, всё это, тем не менее, требует своего завершения в любви. Когда человек любит, он чувствует, что знает, почему и для чего он живет. Таким образом всё достигает единства и согласия. Поэтому самый важный вопрос, который каждый человек может задать себе, сталкиваясь с тайной своей жизни, таков: есть ли у меня сердце?
Огонь
24. Всё это имеет значение для духовности. К примеру, главный принцип богословия «Духовных упражнений» святого Игнатия Лойолы — это affectus [состояние, настроение, чувство, переживание, страсть — прим. перев.]. Дискурсивное измерение построено на фундаментальном волении (всей силой сердца), дающем силу и ресурсы для изменения жизни. Правила и обстоятельства места, которые предлагает Игнатий, действуют в силу отличного от них «основания», неведомого сердца. Мишель де Серто подчеркивает, что «движения», о которых говорит святой Игнатий, — это проявления воли Божией и воления сердца, которые отличаются от очевидного порядка вещей. Нечто нежданное начинает говорить в сердце человека, нечто, что возникает из непознаваемого, снимает покров с известного и возражает ему. Это начало нового «устроения жизни», идущего от сердца. Это не рациональный дискурс, который следует воплощать в жизнь, как если бы эмоциональный и практический аспекты были просто следствиями достоверного знания. [16]
25. Там, где философ и его мысль вынуждены остановиться, верующее сердце продолжает любить, молиться, просить о прощении, и выражает готовность служить там, где предлагает ему Господь, чтобы следовать за Ним. Тогда сердце понимает, что для Бога оно — это «ты», и что оно способно быть «я» именно в силу того, что Бог для него — это «Ты». Поистине, только Господь предлагает относиться к нам как к «ты», ныне и присно. Принять Его дружбу — это задача сердца, именно это делает нас людьми в полном смысле слова.
26. Святой Бонавентура говорил, что вопрошать следует «не свет, а огонь». [17] Он также учил, что «вера пребывает в интеллекте, чтобы вызвать привязанность. К примеру, знание того, что Христос умер за нас, не остается только лишь знанием, но непременно становится привязанностью, любовью». [18] Именно в этом смысле святой Джон Генри Ньюмен избрал своим девизом слова «Cor ad cor loquitur» [сердце говорит к сердцу — прим. перев.], потому что, помимо всякой диалектики, Господь спасает нас, говоря к нашему сердцу из Своего Святейшего Сердца. Исходя из той же логики, для Ньюмена, великого мыслителя, пространством глубочайшей встречи с собой и с Господом было не чтение и размышление, а молитвенный диалог, от сердца к сердцу, с живым и присутствующим Христом. Поэтому Ньюмен обрел в Евхаристии живое Сердце Иисуса, способное освобождать и наполнять смыслом каждый момент жизни и устроять в ней истинный мир: «О святейшее и прелюбезнейшее Сердце Иисуса, сокрытое в Пресвятой Евхаристии и всегда бьющееся ради нас. […] Прибегаю к Тебе с величайшей любовью и благоговением, с пылкой преданностью, с самой покорной и решительной волей. О Боже мой, когда Ты придешь ко мне в Святом Причастии и поселишься во мне, повели моему сердцу биться в согласии с Твоим Сердцем. Очисти его от всего земного, от всякой гордыни и чувственности, от грубости и жестокости, от всякой неправды, беспорядка и теплохладности. Наполни его Собою настолько, чтобы ни заботы дня, ни обстоятельства времени не могли его расстроить, и чтобы в Твоей любви и Твоем страхе оно обрело покой». [19]
27. Перед Сердцем Иисуса, живого и присутствующего, наш разум, просвещенный Святым Духом, постигает Его слова, и наша воля приходит в движение, чтобы исполнять их. Однако всё это может остаться лишь проявлением самодовольного морализма. Слушать Господа, вкушать Его и почитать Его — это дело сердца. Только сердце способно привести прочие способности и страсти, и всю нашу личность в состояние благоговения перед Господом и любовного послушания Ему.
Мир меняется, начиная с сердца
28. Только начиная с сердца, ум и воля людей в нашем обществе смогут объединиться и примириться, чтобы Дух направлял нас как содружество братьев и сестер, потому что примирение — это также задача сердца. Сердце Христа — это экстаз, это исхождение, дар, встреча. В Нем мы становимся способными созидать здоровые и счастливые отношения и строить Царство любви и справедливости в этом мире. Наше сердце, соединенное с сердцем Христа, способно на это социальное чудо.
29. Когда мы принимаем сердце всерьез, это имеет серьезные социальные последствия. Как учит Второй Ватиканский собор, «все мы должны изменить наши сердца, обратив свой взгляд на весь мир и на те обязанности, которые мы можем все вместе исполнять ради того, чтобы род человеческий преуспел к лучшему». [20] Потому что «разлад, от которого страдает современный мир, связан с другим, более глубоким разладом, коренящимся в сердце человека». [21] Перед лицом трагедий мира Собор предлагает нам возвратиться к сердцу, объясняя, что человек «своим внутренним миром превосходит всю совокупность вещей: этих внутренних глубин он достигает, обращаясь к собственному сердцу, где его ожидает Бог, испытующий сердца (ср. 1 Царств 16, 7; Иер 17, 10), и где под оком Божиим он решает собственную участь». [22]
30. Это не значит чересчур полагаться на себя. Будем осторожны: наше сердце не самодостаточно, оно хрупко и ранимо. Оно обладает онтологическим достоинством, однако должно постоянно стремиться к более достойной жизни. [23] Второй Ватиканский собор также говорит, что «евангельская закваска пробуждала и пробуждает в сердце человека неудержимую потребность в утверждении собственного достоинства», [24] однако, чтобы жить согласно этому достоинству, недостаточно знать Евангелие или механически исполнять его требования. Для этого мы нуждаемся в помощи божественной любви. Пойдем к Сердцу Христа, к центру Его существа, пылающему горнилу божественной и человеческой любви и совершенной полноте, которой только может достичь человек. Именно там, в этом Сердце, мы познаём самих себя и учимся любить.
31. Наконец, это Святое Сердце является объединяющим принципом реальности, потому что «Христос есть сердце мира; Пасха Его смерти и воскресения — это центр истории, которая благодаря Ему является историей спасения». [25] Все творения «движутся вместе с нами и через нас к общей цели, которой является Бог, к трансцендентной полноте, где воскресший Христос объемлет и освещает все». [26] Предстоя перед Сердцем Христа, я прошу Господа вновь явить сострадание к нашей израненной земле, которую Он пожелал посетить как один из нас. Пусть изольет Он сокровища Своего света и Своей любви, чтобы наш мир, страдающий от войн, социальной и экономической неустроенности, потребительства и бесчеловечного использования технологий, смог вернуть себе самое важное и необходимое: сердце.
II.
Жесты и слова любви
32. Сердце Христа, символ центра Его личности, из которого проистекает Его любовь к нам, — это живое ядро первого христианского возвещения. Это источник нашей веры, в котором берут начало все прочие убеждения.
Жесты выражают сердце
33. Христос не счел нужным подробно объяснять, как Он любит нас. Он показывал это Своими поступками. Глядя на то, как Он действует, мы можем узнать, как Он относится к каждому из нас, даже если нам бывает трудно это принять. Обратим наш взгляд туда, где наша вера сможет это распознать: на Евангелие.
34. Евангелие говорит, что Иисус «пришел к Своим» (Ин 1, 11). Мы — Его, потому что Он не относится к нам как к чужим. Он считает нас Своими, теми, кого Он оберегает с заботой и любовью. Он относится к нам как к Своим, но не в том смысле, что мы Его рабы, это Он Сам отрицает: «Я уже не называю вас рабами» (Ин 15, 15). То, что Он предлагает, — это взаимная принадлежность друзей. Он пришёл, преодолел все расстояния, стал близок нам, словно самые простые и будничные вещи в нашей жизни. В самом деле, ведь у Него есть и другое имя, — «Эммануил», что значит «Бог с нами», Бог, близкий нашей жизни, живущий среди нас. Сын Божий воплотился и «уничижил Себя Самого, приняв образ раба» (Флп 2, 7).
35. Это становится очевидным из того, как Он действует. Он всегда ищет, всегда близок, постоянно открыт для встречи. Мы созерцаем Его, когда Он остановился поговорить с самарянкой у колодца, куда та пришла за водой (ср. Ин 4, 5–7). Мы видим, как поздно ночью Он встречается с Никодимом, боявшимся, что его увидят с Иисусом (ср. Ин 3, 1–2). Мы восхищаемся Им, когда Он без стыда позволяет проститутке омыть Ему ноги (ср. Лк 7, 36-50); когда Он в глаза говорит женщине, уличенной в супружеской измене: «Я не осуждаю тебя» (ср. Ин 8, 11); или когда Он вопреки безразличию учеников с любовью говорит слепому на улице: «Что ты хочешь, чтобы Я сделал для тебя?» (Мк 10, 51). Христос показывает, что Бог — это близость, сострадание и нежность.
36. Исцеляя человека, Он считал нужным приблизиться к нему: «Он простер руку Свою и коснулся его» (Мф 8, 3); «Он коснулся руки ее» (Мф 8, 15); «Он коснулся глаз их» (Мф 9, 29). Он даже исцелял больных Своей слюной (ср. Мк 7, 33), словно мать, чтобы люди не чувствовали, будто Он чужой их жизни. Потому что «Господь знает прекрасную науку ласки. Нежность Бога в том, что Он любит нас не словами, но приближается к нам, и, пребывая рядом, дарит нам Свою любовь с величайшей нежностью». [27]
37. Когда нам трудно довериться Ему, настолько мы изранены ложью, злобой и разочарованиями, Он шепчет нам на ухо: «мужайся, сын» (Мф 9, 2), «мужайся, дочь» (Мф 9, 22). Он помогает нам превозмочь страх и понять, что с Ним нам нечего терять. Когда Петр не смог довериться Ему, Он «простер руку, поддержал его и говорит ему: зачем ты усомнился?» (Мф 14, 31). Не бойтесь. Позвольте Ему подойти к вам, усадите Его рядом. Мы можем сомневаться в ком угодно, только не в Нем. И пусть вас не останавливает сознание ваших грехов. Вспомните, что многие грешники «сидели за столом с Иисусом» (ср. Мф 9, 10), и это ничуть не смущало Его. Религиозная элита возмущалась и говорила о Нем: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам» (Мф 11, 19). Когда же фарисеи осуждали Его за близость к людям, считавшимся недостойными или грешными, Иисус отвечал им: «Милости хочу, а не жертвы» (Мф 9, 13).
38. Тот же самый Иисус сегодня ждет, чтобы вы позволили Ему осветить вашу жизнь, помочь вам подняться, наполнить вас Своей силой. Перед смертью Он сказал Своим ученикам: «Не оставлю вас сиротами; приду к вам. Ещё немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня» (Ин 14, 18–19). Он всегда найдет способ явить Себя в вашей жизни, чтобы вы смогли встретить Его.
Взгляд
39. В Евангелии говорится, что однажды к Нему пришел богатый человек, полный идеалов, но не имеющий сил изменить свою жизнь. Тогда «Иисус взглянул на него» (ср. Мк 10, 21). Представьте себе этот миг, эту встречу глаз человека со взглядом Иисуса? Когда Он призывает вас, когда Он призывает вас на миссию, сначала Он смотрит на вас, вглядывается в глубины вашего существа, воспринимает и знает всё, что в вас есть, останавливает на вас Свой взор: «Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев […] Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев» (Мф 4, 18.21).
40. Многие евангельские тексты показывают, что Иисус уделял всё Свое внимание людям, их заботам и страданиям. Например: «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны» (Мф 9, 36). Когда нам кажется, что все нас игнорируют, что никого не интересует, что с нами происходит, что мы никому не нужны, Он внимателен к нам. Именно об этом Он сказал стоявшему в одиночестве и поглощенному собой Нафанаилу: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя» (Ин 1, 48).
41. Именно благодаря этому вниманию к нам Он способен распознать каждое наше доброе намерение, любое мало-мальски доброе дело, которое мы совершаем. В Евангелии говорится, что, увидев бедную вдову, бросившую в храмовую сокровищницу две мелкие монеты (ср. Лк 21, 2), Он тотчас указал на это апостолам. Иисус замечает всё, чтобы восхититься тем хорошим, что видит в нас. Когда сотник обратился к Нему с совершенным доверием, «услышав сие, Иисус удивился» (Мф 8, 10). Как прекрасно знать, что даже если другие игнорируют наши добрые намерения или дела, Иисус не только не упускает их из виду, но напротив — восхищается ими.
42. В Своем человечестве Он научился этому у Марии, Своей Матери. Она, всё внимательно созерцавшая и сохранявшая в сердце своем (ср. Лк 2, 19.51), с ранних лет вместе со святым Иосифом учила Его подобному вниманию.
Слова
43. Хотя в Священном Писании пребывает Слово Христа, всегда живое и действенное, иногда Он говорит с нами внутри нас, приглашая нас в лучшее место. И это лучшее место — Его Сердце. Он призывает нас войти туда, где мы сможем вновь обрести силу и мир: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф 11, 28). Поэтому Он просил Своих учеников: «Пребудьте во Мне» (Ин 15, 4).
44. Слова Иисуса показывают, что Его святость не отменяет чувств. Иногда Его слова выдают страстную любовь, когда Он вместе с нами печалится, жалуется, и даже плачет. Очевидно, что заботы и тревоги людей, их усталость или голод не оставляли Его равнодушным: «Жаль Мне народа […] нечего им есть […] ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека» (Мк 8, 2–3).
45. Евангелие не скрывает чувств Иисуса к Иерусалиму, возлюбленному городу: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем» (Лк 19, 41), и высказал Свое величайшее желание: «О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему!» (19, 42). Хотя иногда Евангелисты изображают Иисуса в Его силе и славе, они также не упускают возможности показать Его чувства, когда Он встречается с болью и смертью Своих друзей. Прежде чем рассказать, как перед гробом Лазаря «Иисус прослезился» (Ин 11, 35), Евангелие делает паузу, чтобы подчеркнуть, что «Иисус любил Марфу и сестру ее и Лазаря» (Ин 11, 5), и что, увидев Марию и бывших с ней плачущими, Он «восскорбел духом и возмутился» (Ин 11, 33). Рассказ не оставляет сомнений в том, что это был настоящий плач, идущий от внутреннего волнения. Наконец, Евангелие не скрывает мук Иисуса перед жестокой смертью от рук тех, кого Он любил: «Он начал ужасаться и тосковать, и сказал им: душа Моя скорбит смертельно» (Мк 14, 33–34). Это внутреннее смятение со всей силой выражено в вопле Распятого: «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мк 15, 34).
46. Поверхностному взгляду всё это может показаться простым религиозным романтизмом. Однако это и есть то самое серьезное и самое решающее, что находит высшее выражение во Христе, пригвожденном ко Кресту. Это самое красноречивое слово любви. Это не пустая оболочка, не простая эмоциональность, и не духовное бегство. Это любовь. Вот почему святой Павел, ища подходящие слова для объяснения своих отношений с Христом, говорит: Он возлюбил меня и предал Себя за меня (ср. Гал 2, 20). Таково было его величайшее убеждение: он знал, что он любим. Крестная жертва Христа стала для Павла движущей силой его жизни, но она имела смысл лишь поскольку за ней было нечто большее, чем жертва: «Он возлюбил Меня». В то время множество людей искало в разных религиозных движениях спасение, благополучие или уверенность. Но Павел, исполненный Святого Духа, мог заглянуть дальше и поразиться самому великому и значимому: «Христос возлюбил меня».
47. Мы посмотрели на Христа и увидели, как Его слова и дела позволяют нам познать Его Сердце. Вспомним теперь, каким образом Церковь мыслит о священной тайне Сердца Господня.
III.
Вот Сердце, которое много возлюбило
48. Почитание Сердца Христова — это не культ органа, отдельного от Личности Иисуса. То, что мы созерцаем и чему поклоняемся, — это всецелый Иисус Христос, Сын Божий, ставший человеком и предстоящий нам в образе, в котором явлено Его сердце. Сердце из плоти здесь — это образ или особый знак сокровенного центра воплотившегося Сына и Его любви, одновременно божественной и человеческой, потому что оно в бóльшей степени, чем любой другой член Его тела, является «естественным знаком или символом Его бесконечной милосердной любви». [28]
Поклонение Христу
49. Следует подчеркнуть, что мы входим в отношения именно с Личностью Христа, в дружбе и поклонении, влекомые Его любовью, предстающей нам в образе Его Сердца. Мы почитаем образ, показывающий нам Его, однако поклонение может быть направлено лишь на живого Христа, в полноте Его божественности и человечности, чтобы позволить Ему объять нас Своей человеческой и божественной любовью.
50. О каком бы изображении ни шла речь, несомненно, что именно живое Сердце Христа, — но никогда не изображение как таковое, — является объектом поклонения, поскольку Сердце является частью Его святейшего и воскресшего тела, неотделимого от Сына Божия, навеки принявшего Его. Мы поклоняемся Его Сердцу, «с Богом Словом по существу соединенному». [29] Мы поклоняемся ему не в отдельности, но именно в силу того, что с этим самым Сердцем воплощенный Сын Божий живет, любит и воспринимает нашу любовь. И следовательно всякий акт любви или поклонения, обращенный к Его Сердцу, в действительности «истинно и подлинно воздается Самому Христу», [30] поскольку это изображение непосредственно указывает на Него и является «символом и образом бесконечной любви Иисуса Христа». [31]
51. Поэтому не следует считать, будто этот род благочестия способен отдалить или отвлечь нас от Иисуса Христа и Его любви. Оно прямо и непосредственно направляет нас к Нему и только к Нему, приглашающему нас к драгоценной дружбе, состоящей из общения, привязанности, доверия и поклонения. Этот Христос, с сердцем пронзенным и пылающим, — тот же, что из любви к нам родился в Вифлееме, ходил по Галилее, предлагая людям исцеление, нежность и милосердие; тот же, что возлюбил нас до конца, распростерши объятия на кресте. Наконец, Он тот самый, что воскрес и пребывает посреди нас в Своей славе.
Почитание образа Сердца
52. Следует отметить, что изображение Христа с Его сердцем, хотя оно никоим образом не является объектом поклонения, всё же не есть всего лишь одно среди многих других. Этот образ родился не за письменным столом или в фантазии художника, «это не воображаемый, но реальный символ, представляющий центр, источник, из которого излилось спасение для всего человечества». [32]
53. Есть универсальный человеческий опыт, который делает этот образ неповторимым. Несомненно, что во всей истории и повсюду в мире именно сердце стало символом сáмой личной близости, а также привязанности, чувства и способности любить. Помимо всяких научных объяснений, рука друга, положенная на сердце, выражает особую привязанность; когда вы влюблены и оказываетесь рядом с любимым человеком, ваше сердце бьется чаще; когда вы страдаете от разлуки или обмана со стороны любимого человека, вы чувствуете тяжесть на сердце. Когда нужно выразить нечто искреннее, что действительно исходит из центра человека, мы говорим: «Я говорю это от всего сердца». Поэтический язык не может игнорировать силу этих переживаний. Поэтому на протяжении истории сердце приобрело уникальное, а не просто условное символическое значение.
54. Это объясняет, почему Церковь избрала образ сердца, чтобы выразить человеческую и божественную любовь Иисуса Христа и самое сокровенное ядро Его Личности. Однако, хотя изображение сердца, охваченного пламенем, само по себе может быть красноречивым символом, напоминающим нам о любви Иисуса, тем не менее уместно, чтобы это сердце было именно частью образа Иисуса Христа. В таком случае это приглашение к личному общению, встрече и диалогу становится еще более значительным. [33] Чтимый образ Христа, на котором Он держит в руке Свое любящее Сердце, включает в себя также и Его взгляд, приглашающий к встрече, общению, доверию, Его сильные руки, способные поддержать нас, Его уста, которыми Он говорит с нами неповторимым и очень личным образом.
55. Сердце обладает тем преимуществом, что воспринимается не как отдельный орган, а как сокровенный объединяющий центр, в отличие от других органов человеческого тела, как выражение всей тотальности человека. Если это сокровенный центр всего человека и, соответственно, часть, представляющая целое, то его можно легко исказить, если созерцать отдельно от образа Господа. Образ сердца должен направлять нас к всецелому Христу, и одновременно из этого объединяющего центра вести нас к созерцанию Христа в полноте красоты и богатства Его человечества и Его Божественности.
56. Здесь мы выходим за рамки привлекательности, которой обладают различные изображения Сердца Христова, поскольку, предстоя перед ними, мы не должны «просить их о чем-то, или уповать на изображения, как то делали язычники в древности», но «через изображения, которые мы почитаем целованием, перед которыми обнажаем головы или простираемся ниц, мы поклоняемся Христу». [34]
57. Более того, некоторые из этих изображений могут казаться нам непривлекательными и не побуждать нас в должной мере к любви и молитве. Но это второстепенно, поскольку образ — лишь приглашающий нас указатель, и следовательно, согласно известному восточному выражению, не стоит слишком пристально смотреть на палец, указывающий на луну. Если Евхаристия это реальное присутствие, которому подобает поклонение, то здесь мы имеем дело лишь с изображением, которое, даже будучи освященным, приглашает нас идти дальше, возвысить свое сердце до сердца живого Христа и соединиться с Ним. Чтимое изображение приглашает, указывает, волнует, так что мы с готовностью посвящаем время встрече со Христом и поклонению Ему, каким мы можем Его себе представить. Итак, созерцая изображение, мы предстаем перед Христом, и «любовь, созерцая тайну, в тишине наслаждается ею». [35]
58. При этом мы не должны забывать, что образ сердца говорит нам о человеческой плоти, о земном, а следовательно, также и о Боге, Который пожелал войти в наше историческое состояние, чтобы стать частью истории и разделить с нами наш земной путь. Более абстрактные или стилизованные формы благочестия не обязательно более соответствуют Евангелию, ведь именно в этом осязаемом и доступном знаке нам явлено, как Бог пожелал открыть Себя и быть рядом с нами.
Осязаемая любовь
59. Любовь и сердце не всегда едины, ведь в человеческом сердце могут царить ненависть, равнодушие и эгоизм. Но мы не достигнем полноты своей человечности, если не выйдем за пределы себя, и не сможем стать полностью самими собой, если не любим. Поэтому сокровенный центр нашей личности, сотворенной для любви, исполняет замысел Божий, только если любит. Поэтому символ сердца — это одновременно символ любви.
60. Предвечный Сын Божий, превосходящий меня безгранично, пожелал возлюбить меня человеческим сердцем. Его человеческие чувства становятся таинством бесконечной и вечной любви. Поэтому символ Его сердца выражает не одну лишь только духовную реальность, отделенную от материи. Взгляд, обращенный к сердцу Господа, созерцает также физическую реальность, Его человеческую плоть, благодаря которой Христос обладает человеческими эмоциями и чувствами, подобными нашим, хотя и полностью преображенными Его божественной любовью. Почитание должно быть направлено на бесконечную любовь личности Сына Божия, однако необходимо подчеркнуть, что она неотделима от Его человеческой любви, и в этом нам помогает образ Его сердца из плоти.
61. Поскольку и сегодня сердце воспринимается в народном сознании как центр эмоциональной сферы всякого человека, следовательно именно оно может лучше всего выступать знаком божественной любви Христа, соединенной навеки и неразлучно с Его истинно человеческой любовью. Уже Пий XII указывал, что «любовь Сердца Иисуса Христа включает в себя не только божественное милосердие, но простирается также и на чувства человеческой привязанности. […] Поэтому Сердце Иисуса Христа, ипостасно соединенное с божественной Личностью Слова, несомненно, должно было трепетать от любви и иных движений чувств». [36]
62. В отличие от тех, кто отрицал или принижал истинную человечность Христа, у Отцов Церкви мы находим настойчивое подтверждение конкретной и осязаемой реальности человеческих привязанностей Господа. Так, святой Василий подчеркивал, что воплощение Господа не является видимостью, но что «Господь принял на Себя естественные чувствования». [37] Святой Иоанн Златоуст приводит пример: «Если бы [Христос] не был нашего естества, то не был бы одержим скорбью, и притом не однажды, а дважды». [38] Святой Амвросий утверждает: «Христос, восприняв душу, воспринял и душевные страсти». [39] А святой Августин указывает на человеческие привязанности как на реальность, которая, однажды будучи воспринятой Христом, уже не может быть чужда жизни благодати: «Господь Иисус принял на Себя все следствия, присущие человеческой слабости (как Он принял и смерть телесную), не по принуждению, но из милости. […] Потому, если и довелось кому опечалиться и пострадать посреди человеческих искушений, не следует считать себя оставленным благодатью Христовой». [40] Наконец, святой Иоанн Дамаскин полагает, что реальный опыт страдания Христа в Его человечности доказывает, что Он воспринял нашу природу целиком, а не отчасти, чтобы полностью искупить и преобразовать ее. Поэтому Христос принял на Себя все элементы, составляющие человеческую природу, чтобы всё было освящено. [41]
63. Здесь стоит вспомнить размышления одного богослова, который признаёт, что «под влиянием греческой мысли богословие долгое время относило тело и чувства к миру дочеловеческого, недочеловеческого, или искушений, постигающих истинно человеческое. Однако то, что теология не сумела разрешить в теории, духовность разрешила на практике. Духовность и народное благочестие сохранили живую связь с соматическими, психологическими и историческими аспектами личности Иисуса, почитание Сердца Иисуса и Его ран, духовность драгоценной Крови, евхаристическое благочестие […] Все это заполняло пробелы в богословии, питая воображение и сердце, любовь и нежность ко Христу, надежду и память, желание и ностальгию. Рассудок и логика пошли иным путем». [42]
Тройственная любовь
64. Какими бы прекрасными и трогательными ни были человеческие чувства Христа, мы не можем остановиться на них, поскольку, созерцая Его Сердце, мы познаём, что в благородных и здравых движениях Его души, в Его нежности, в порывах Его человеческой привязанности нам открывается вся истина Его божественной и бесконечной любви. Бенедикт XVI выразил это такими словами: «Из безмерного горизонта Своей любви Бог пожелал войти в границы истории и человеческой природы, обрел тело и сердце, так, чтобы мы могли созерцать и встречать бесконечное в конечном, невидимую и непостижимую Тайну в человеческом Сердце Иисуса Назарянина». [43]
65. Действительно, существует тройственная любовь, пребывающая и поражающая нас в образе Сердца Христова. Во-первых, это бесконечная божественная любовь, которую мы находим во Христе. Но задумаемся также о духовном измерении человечества Господа; с этой точки зрения сердце «есть символ той горячей любви, которая, будучи излита в Его душу, обогащает человеческую волю Христа». Наконец, это «символ Его чувствующей любви». [44]
66. Эти три рода любви не являются отдельными способностями, действующими параллельно или независимо, но скорее проявляют себя совместно в постоянном потоке жизни: «Вера, согласно которой две природы, человеческая и Божественная, соединились в Лице Иисуса Христа, позволяет нам постичь тесные отношения, которые существуют между чувствующей любовью физического сердца Иисуса и Его двойной духовной любовью, человеческой и божественной». [45]
67. Поэтому, приступая к Сердцу Христа, мы чувствуем себя возлюбленными человеческим сердцем, полным привязанностей и чувств, подобных нашему. Его человеческая воля свободно желает любить нас, и эта духовная воля полностью освящена благодатью и милосердием. Когда мы достигаем глубин этого Сердца, нас переполняет безмерная слава Его бесконечной любви как вечного Сына, неотделимой от Его человеческой любви. Именно в Его человеческой любви, а не помимо нее или вопреки ей, мы обретаем Его божественную любовь: мы находим «бесконечное в конечном». [46]
68. Неизменное и окончательное учение Церкви состоит в том, что наше поклонение Его Личности единым и неделимым образом включает в себя как Его божественную, так и человеческую природу. Церковь с древних времен учит, что надлежит «поклоняться одному и тому же Христу, Сыну Божию и Сыну Человеческому, в двух естествах, нераздельных и неразлучных». [47] Мы «чтим Его единым поклонением […], поскольку Слово стало плотью». [48] Ни в коей мере не дóлжно «поклоняться Христу в двух естествах, от чего вводятся два поклонения, особое Богу Слову и особое человеку», но надлежит «поклоняться одним поклонением Богу Слову, воплотившемуся вместе с Его собственною плотию». [49]
69. Святой Иоанн Креста стремился выразить, что в мистическом опыте безмерная любовь воскресшего Христа не воспринимается как нечто чуждое нашей жизни. Бесконечное в известном смысле нисходит, чтобы через открытое Сердце Христа мы могли пережить подлинно взаимную встречу любви: «Ведь возможно, чтобы низкого полета птица уловила царственного орла, если тот, желая быть изловленным, нисходит к ней». [50] И он поясняет, что «видя невесту, раненную его любовью, и слыша ее воздыхания, он сам ранится ее любовью, поскольку у возлюбленных рана — едина, как и чувство, которое они испытывают». [51] Мистик понимает образ пронзенного бока Христова как призыв к полному единению с Господом. Он подобен оленю, раненному тем, что мы не позволили Его любви коснуться нас; он спускается к потокам вод, чтобы утолить нашу жажду, и утешается, когда мы обращаемся к Нему:
«Воротись, голубка,
Ибо олень раненый
На холме показывается
Дуновению твоего полёта, и свежесть хватает». [52]
Тринитарные перспективы
70. Почитание Сердца Иисуса глубоко христологично; это непосредственное созерцание Христа, призывающее к единению с Ним. Это оправданно, если вспомнить, о чем просит нас Послание к Евреям: проходить наше поприще, «взирая на Иисуса» (ср. 12, 2). В то же время невозможно игнорировать то, что сам Иисус говорит о Себе как о пути, ведущем к Отцу: «Я есмь путь […]. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин 14, 6). Он желает привести нас к Отцу. Вот почему проповедь Церкви с самого начала не останавливается на Иисусе Христе, но ведет нас к Отцу. В конце концов именно Отцу, как изначальной полноте, надлежит быть прославленным. [53]
71. Обратимся, например, к Посланию к Ефесянам, где мы со всей ясностью и глубиной видим, что наше поклонение обращено к Отцу: «Преклоняю колени мои пред Отцом» (Еф 3, 14). «Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас» (Еф 4, 6). «Благодарю всегда за все Бога и Отца» (Еф 5, 20). Мы предназначены для Отца (ср. 1 Кор 8, 6) — вот почему св. Иоанн Павел II говорил, что «вся христианская жизнь подобна великому паломничеству к дому Отца». [54] Именно это пережил святой Игнатий Антиохийский на пути к мученичеству: «Вода живая, говорящая во мне, взывает мне извнутри: “Иди к Отцу”». [55]
72. Бог прежде всего Отец Иисуса Христа: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа» (Еф 1, 3). Он «Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы» (Еф 1, 17). Когда Сын стал человеком, все желания и устремления Его человеческого сердца были устремлены к Отцу. Видя, как Христос говорил об Отце, мы ощущаем любовь и привязанность Его человеческого сердца, эту совершенную и постоянную обращенность к Отцу. [56] История Его жизни на нашей земле была странствием, в котором Он в Своем человеческом сердце чувствовал постоянный призыв идти навстречу Отцу. [57]
73. Мы знаем, что Иисус называл Отца арамейским словом «Авва», что означает «папа, папочка». Многих возмущала такая фамильярность (ср. Ин 5, 18). Именно так Он воззвал к Отцу в час смертной муки: «Авва Отче! Всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты» (ср. Мк 14, 36). Он всегда сознавал, что Отец любит Его: «Ты возлюбил Меня прежде создания мира» (Ин 17, 24). В Своем человеческом сердце Он ликовал, слыша голос Отца: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мк 1, 11).
74. В четвертом Евангелии говорится, что предвечный Сын Отца всегда был «в недре Отчем» (Ин 1, 18). [58] Святой Ириней говорит, что «Сын Божий всегда пребывал в присутствии Отца». [59] И Ориген утверждает, что Сын «непрестанно пребывает в созерцании глубин Отца». [60] По этой причине, став человеком, Сын проводил ночи в общении с возлюбленным Отцом на вершине горы (ср. Лк 6, 12). Он говорил: «Мне дóлжно быть в том, что принадлежит Отцу Моему» (Лк 2, 49). Мы видим, как Сын восхваляет Отца: «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли» (Лк 10, 21). И последними Его словами, исполненными доверия, были: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лк 23, 46).
75. Обратим теперь взор к Святому Духу, наполняющему Сердце Христа и пылающему в Нем. Как сказал св. Иоанн Павел II, Сердце Христа — «прекраснейшее из деяний Святого Духа». [61] Это справедливо не только по отношению к прошлому, поскольку «в Сердце Христа живо действие Святого Духа, который вдохновлял миссию Иисуса Христа (ср. Лк 4, 18; Ис 61, 1) и которого Он на Тайной Вечере обещал послать ученикам. Именно Дух позволяет нам постичь богатство знака прободенного ребра Христа, из которого произошла Церковь (ср. Конституция Sacrosanctum Concilium, 5)». [62] В итоге, «только Дух Святой может открыть нам полноту “внутреннего человека”, пребывающую в Сердце Христа. Только Он может даровать нашим человеческим сердцам также черпать силу из этой полноты». [63]
76. Вглядываясь в тайну действия Духа, мы видим, что Он воздыхает в нас и взывает: «Авва!» «А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: “Авва, Отче!”» (Гал 4, 6). Действительно, «сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии» (Рим 8,16). Действие Святого Духа в человеческом сердце Христа непрестанно пробуждает эту глубокую привязанность к Отцу. И соединяя нас Своей благодатью с чувствованиями Христа, Он делает нас причастными общению между Сыном и Отцом: «[Мы] приняли Духа усыновления, Которым взываем: “Авва, Отче!”» (Рим 8, 15).
77. Таким образом наша связь с Сердцем Христа преображается под действием Духа, направляющего нас к Отцу, источнику жизни и благодати. Сам Христос не желает, чтобы мы останавливались на Нем. Любовь Христа — это «откровение милости Отчей». [64] Он желает, чтобы, движимые Духом, изливающимся из Его Сердца, «с Ним и в Нем», мы шли к Отцу. Прославление обращено к Отцу «через» Христа, [65] «со» Христом [66] и «во» Христе. [67] Святой Иоанн Павел II учил, что «Сердце Спасителя призывает нас возвратиться к любви Отца, источнику всякой подлинной любви». [68] Именно Святой Дух, приходящий к нам из Сердца Христова, стремится воспитывать наши сердца. Поэтому Литургия, силой животворящего действия Духа, всегда обращается к Отцу из воскресшего Сердца Христова.
Недавние высказывания Учительства
78. Всегда по-разному, но неизменно Сердце Христа присутствовало в истории христианской духовности. В Библии и в первые века Церкви оно появлялось в образе пронзенного бока Господа, как источник благодати или напоминание о сокровенной встрече любви. Мы постоянно встречаем его в свидетельствах множества святых до сего дня. В последние столетия эта духовность оформилась в подлинный культ Сердца Господа.
79. Некоторые из моих предшественников также высказывались о Сердце Христовом и в различных выражениях призывали верных соединяться с Ним. Так, в конце XIX века Лев XIII приглашал к посвящению Святейшему Сердцу, восторгаясь великолепием Его бесконечной любви. [69] Около тридцати лет спустя Пий XI охарактеризовал это благочестие как компендиум опыта христианской веры. [70] Вслед за ними, Пий XII провозгласил, что культ Святейшего Сердца превосходнейшим образом выражает наше поклонение Иисусу Христу. [71]
80. В более недавнем прошлом св. Иоанн Павел II назвал развитие этого культа в прошедшие века ответом на распространение форм духовности, склонных к ригоризму и спиритуализму и позабывших о милосердии Господа, и одновременно призывом к современному миру, который стремится утвердить себя без Бога: «Почитание Святейшего Сердца, развившееся в Европе два столетия назад под влиянием мистического опыта святой Маргариты Марии Алакок, стало ответом на янсенистский ригоризм, который в конечном итоге игнорировал бесконечное милосердие Божие. […] Человек 2000 года нуждается в Сердце Христовом, чтобы познать Бога и самого себя; он нуждается в нём, чтобы строить цивилизацию любви». [72]
81. Бенедикт XVI призывал нас признать Сердце Христа как сокровенное повседневное присутствие в жизни каждого человека: «Каждый нуждается в некоем “центре” своей жизни, в источнике истины и доброты, к которому он мог бы прибегать в череде различных ситуаций и в трудах повседневности. Каждый из нас, замирая в молчании, нуждается в том, чтобы слышать не только биение собственного сердца, но — еще глубже — пульсацию некоего внушающего доверие присутствия, ощущаемого чувством веры и, тем не менее, совершенно реального: присутствия Христа, Сердца мира». [73]
Углубление и актуализация
82. Выразительный и символический образ Сердца Христова — не единственная возможность, которую Святой Дух предлагает нам, чтобы встретиться с любовью Христа. Этот образ всегда будет нуждаться в обогащении, прояснении и обновлении через размышление, чтение Евангелия и духовное возрастание. Уже Пий XII говорил, что Церковь не утверждает, будто «в образе Сердца Иисуса содержится и предлагается для поклонения так называемый “формальный образ”, то есть полный и совершенный знак Его божественной любви, поскольку Его внутренняя сущность не может быть полностью выражена в каком бы то ни было рукотворном изображении». [74]
83. Почитание Сердца Христова важно для нашей христианской жизни в той мере, в какой оно выражает полную открытость нашей веры и поклонения перед тайной божественной и человеческой любви Господа. В этом смысле мы можем вновь подтвердить, что Святейшее Сердце — это синтез Евангелия. [75] Следует помнить, что видения или мистические явления, о которых свидетельствуют некоторые святые, ревностно распространявшие почитание Сердца Христова, — это не что-то, во что все верующие обязаны верить, как если бы это было Слово Божие. [76] Хотя они могут привлекать нас и приносить много пользы, однако никто не должен чувствовать себя принужденным следовать им, если не сочтет это полезным на своем духовном пути. Более того, следует всегда помнить, что, как разъяснял Пий XII, нельзя утверждать, будто культ Сердца Христова «обязан своим происхождением частным откровениям». [77]
84. К примеру, призыв к причащению в первую пятницу каждого месяца имел глубокий смысл во времена, когда множество людей перестало причащаться, поскольку они утратили веру в Божие прощение и милосердие и считали Причастие своего рода наградой для совершенных. В тогдашнем янсенистском контексте распространение этой практики принесло много пользы, поскольку помогало увидеть в Евхаристии безусловную и милосердную любовь Сердца Христова, призывающую нас к единению с Ним. Можно сказать, что и сегодня эта практика может оказаться очень полезной, однако уже по другой причине: из-за суеты современного мира и нашей одержимости свободным временем, потребительством и развлечениями, смартфонами и социальными медиа, мы забываем питать свою жизнь силой Евхаристии.
85. Точно так же никто не должен чувствовать себя обязанным проводить каждый четверг один час в поклонении Пресвятым Дарам. Однако как можно не рекомендовать это? Кто с благочестивым рвением следует этой практике в единстве со своими братьями и сестрами, и обретает в Евхаристии полноту любви Сердца Христова, тот «вместе с Церковью почитает символ и отпечаток божественной любви, возлюбившей род человеческий всем сердцем воплощенного Слова». [78]
86. Это было трудно понять янсенистам, свысока смотревшим на всё человеческое, эмоциональное, телесное, и в итоге полагавшим, что подобного рода благочестие отдаляет нас от чистейшего поклонения Всевышнему Богу. Пий XII назвал «ложным мистицизмом» [79] элитарные взгляды некоторых групп, которые считали, будто Бог настолько высок, отделен и далек, что любые эмоциональные проявления народного благочестия опасны и нуждаются в церковном надзоре.
87. Можно утверждать, что сегодня мы сталкиваемся с явлением еще более опасным, нежели янсенизм, — с секуляризацией, которая стремится построить мир, свободный от Бога. Мы также видим, как распространяются различные формы религиозности, лишенные личных отношений с Богом любви, новые формы «развоплощенной» духовности. При этом следует заметить, что и внутри самой Церкви вредоносный янсенистский дуализм возрождается в новом облике. Эта тенденция набирает силу в последние десятилетия, однако она является проявлением того же гностицизма, который уже в первые века христианской веры был источником духовной опасности, поскольку игнорировал истину о «телесном спасении». Вот почему я обращаю свой взор к Сердцу Христову и приглашаю всех вас обновить вашу преданность Ему. Надеюсь, что это благочестие привлечет наших современников, и таким образом поможет нам противостоять этим старым и новым формам дуализма, которым оно предлагает достойный ответ.
88. Добавлю, что Сердце Христово освобождает нас и от иного дуализма, происходящего от сосредоточенности исключительно на внешней деятельности, на лишенных евангельского духа структурных реформах, на навязчивой реорганизации, на мирских проектах и светском мышлении, на многочисленных «предложениях», которые выдвигаются как требования и в итоге навязываются всем. Результатом этого часто становится христианство, позабывшее нежность веры, радость посвящения служению, пыл миссии от человека к человеку, благоговение перед красотой Христа, взволнованную благодарность за дружбу, которую Он предлагает, и за высший смысл, который Он придает нашей жизни. Одним словом, это еще одна, не менее бестелесная форма иллюзорного трансцендентализма.
89. Все эти чрезвычайно актуальные недуги, от которых мы, заразившись ими, даже не желаем быть исцеленными, побуждают меня призвать всю Церковь к углубленному познанию любви Христовой, явленной в Его Святейшем Сердце. В нём мы можем найти всё Евангелие, в нём собрана воедино истина, в которую мы верим, в нём присутствует то, чему мы с верой поклоняемся, чего ищем, и в чём больше всего нуждаемся.
90. Предстоя перед Сердцем Христа, мы можем возвратиться к воплощенному синтезу Евангелия, чтобы жить так, как я предлагал недавно, вспоминая возлюбленную святую Терезу Младенца Иисуса: «Лучшее, что мы можем сделать, — это позволить сердцу укорениться в том, что находится вне нас самих: в бесконечном милосердии Бога, любящего нас безгранично и отдавшего всё на Кресте Иисуса». [80] Святая Тереза пережила этот опыт с невероятной глубиной, потому что в Сердце Христовом открыла, что Бог есть любовь: «Он даровал мне Свое бесконечное Милосердие, и через него я созерцаю и другие Божественные совершенства и поклоняюсь им!» [81] Вот почему самая известная молитва, устремленная, словно стрела, в Сердце Христово, говорит просто: «Уповаю на Тебя». [82] Других слов не нужно.
91. В последующих главах мы выделим два фундаментальных аспекта, которые почитание Святейшего Сердца должно сохранять сегодня, чтобы продолжать питать и приближать нас к Евангелию: это личный духовный опыт и участие в миссии церковной общины.
IV.
Любовь, дающая пить
92. Обратимся к Священному Писанию, к боговдохновенным текстам, которые являются для нас главным источником Откровения. В нём и в живом Предании Церкви заключено то, что Сам Господь пожелал сказать нам на протяжении истории. Отталкиваясь от текстов Ветхого и Нового Заветов, мы также рассмотрим некоторые плоды Слова в долгом духовном паломничестве Народа Божия.
Бог жаждет любви
93. Библия показывает, как странствовавшему по пустыне в ожидании освобождения народу было обещано обилие живительной воды: «В радости будете почерпать воду из источников спасения» (Ис 12, 3). Мессианские обетования используют образ источника очищающей воды: «Окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь […] и дух новый дам вам» (Иез 36, 25–26). Именно вода возвратит народ к полноте жизни, подобно роднику, который, истекая из храма, восстанавливает жизнь и здравие: «И когда я пришёл назад, и вот, на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону. […] И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо […], потому что войдет туда эта вода, и воды сделаются здоровыми, и, куда войдет этот поток, всё будет живо там» (Иез 47, 7.9).
94. Вода постепенно стала центральным символом еврейского Праздника кущей (Суккот), посвященного воспоминанию сорокалетнего пребывания в пустыне. Праздничные обряды включали в себя ежеутреннее приношение воды, которое совершалось особенно торжественно в последний день праздника: после многолюдного шествия к Храму священники семикратно обходили вокруг жертвенника и при громких восклицаниях возливали на жертвенник воду. [83]
95. Наступление мессианского времени изображается как открытие водного источника: «На дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили. […] В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты» (Зах 12, 10; 13, 1).
96. Пронзенный человек, открытый источник, дух благодати и молитвы: исполнение всех этих обетований первые христиане ясно видели в пронзенном копьем боку Христа — источнике, из которого исходит новая жизнь. Читая Евангелие от Иоанна, мы видим, как это пророчество исполнилось во Христе. Мы созерцаем Его открытый бок, из которого истекла вода Духа: «Один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода» (Ин 19, 34). И евангелист добавляет: «Воззрят на Того, Которого пронзили» (Ин 19, 37). Тем самым он возобновляет пророческую весть, обещавшую народу, что в Иерусалиме откроется источник, когда они будут смотреть на пронзенного (ср. Зах 12,10). Открытый источник — это раненый бок Иисуса.
97. Замечательно, что само Евангелие возвещает об этом священном моменте именно «в последний великий день праздника» кущей (Ин 7, 37). Тогда Иисус возгласил народу, идущему с ликованием в торжественном шествии: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой» (Ин 7, 37–38). Чтобы это произошло, должен был прийти Его «час», потому что «Иисус еще не был прославлен» (Ин 7, 39). Всё это исполнилось в преизобильном источнике Креста.
98. В Книге Апокалипсиса вновь появляются и Пронзенный: «И узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его» (Откр 1, 7), и открытый источник: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром» (Откровение 22, 17).
99. Пронзенный бок есть в то же время место любви, в которой Бог объяснялся Своему народу столь многими разными словами, которые стоит вспомнить:
«Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя» (Ис 43, 4).
«Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя на дланях Моих» (Ис 49, 15–16).
«Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, — а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется» (Ис 54,10).
«Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение» (Иер 31, 3).
«Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием» (Соф 3, 17).
100. Пророк Осия заходит столь далеко, что говорит о сердце Божием: «Узами человеческими влек Я их, узами любви» (Ос 11, 4). Из-за этой же отвергнутой любви он мог сказать: «Повернулось во Мне сердце Мое, возгорелась вся жалость Моя!» (Ос 11, 8). Но в конце концов восторжествует милосердие (ср. Ос 11, 9), которое достигнет своей вершины во Христе, окончательном слове любви.
101. Пронзенное Сердце Христа воплощает в себе все обетования любви, содержащиеся в Писании. И это не просто слова, потому что Его пронзенный бок — это источник жизни для тех, кого Он возлюбил, источник, утоляющий жажду Его народа. Как учил святой Иоанн Павел II, «существенные элементы этого благочестия [поклонения Святейшему Сердцу], всегда были частью духовности Церкви на протяжении всей ее истории, поскольку с самого начала Церковь созерцала сердце Христа, пронзенное на Кресте». [84]
Отзвуки Слова в истории
102. Рассмотрим некоторые плоды, которые Слово Божие принесло в истории христианской веры. Отдельные отцы Церкви, особенно из Малой Азии, говорили о ране в боку Иисуса как об источнике воды Духа — Слова, благодати, и таинств, её передающих. Сила мучеников происходит от «небесного источника воды живой, исходящей из чрева Христова», [85] или, как переводит Руфин, от «небесных и вечных источников, исходящих из недр Христовых». [86] Мы, верующие, возрожденные Духом, происходим из этой пещеры, «из утробы Христа как бы отсеченные». [87] Его израненный бок, в котором мы видим образ Его сердца, исполнен Духа Святого, нисходящего к нам подобно рекам живой воды: «Источник Духа всецело во Христе». [88] Однако Дух, которого мы принимаем, не отдаляет нас от воскресшего Господа, а напротив наполняет нас Им, потому что, пия от Духа, мы пьем Самого Христа: «Пей Христа, ибо Он скала, изливающая воду. Пей Христа, ибо Он источник жизни. Пей Христа, ибо Он река, потоки которой веселят град Божий. Пей Христа, ибо Он мир. Пей Христа, ибо вода живая течет из чрева Его». [89]
103. Святой Августин стал первым, кто почитал Святейшее Сердце как место личной встречи с Господом. Для него грудь Христова — не только источник благодати и таинств, но глубоко личный символ сокровенного единения со Христом, место встречи любви. Там находится источник самой драгоценной мудрости, а именно познания Христа. Августин пишет, что Иоанн, Возлюбленный ученик, приклонив голову на грудь Иисуса во время Тайной Вечери, приблизился к тайному месту мудрости. [90] Речь идет не просто об интеллектуальном созерцании богословской истины. Святой Иероним объяснял, что человека, способного к созерцанию, «не веселят морские берега, но зато он будет пить воду жизни одесную Господа». [91]
104. Святой Бернард воспринял эту символику пронзенного бока Господа, очевидно понимая его как откровение и дар любви Его Сердца. Через рану в боку мы обретаем доступ к Сердцу и можем приобщиться к великой тайне любви и милосердия: «Я беру из недр Господних то, чего мне недостает, ибо они изобилуют милосердием, но нет просвета, через который оно могло бы течь ко мне. Теперь, когда Господу пронзили руки, ноги, и ребра, через эти отверстия я могу вкушать мед из скалы и масло из самого твердого камня, то есть вкушать и видеть, как благ Господь. […] Железо пронзило Его душу и приблизилось к сердцу так, что Он уже не мог не снизойти к моей слабости. Ранами телесными открыт вход в тайну Сердца, и явлено великое таинство благочестия, явлены недра милосердия Бога нашего». [92]
105. Гийом из Сен-Тьерри особенно ярко раскрывает этот образ Сердца Иисуса, питающего нас Своей грудью. [93] Этот образ не должен нас удивлять, если мы вспомним, что для этого автора «искусство искусств — это искусство любви. […] Любовь пробуждается Творцом природы […]. Любовь — это сила души, влекущая ее как бы естественным расположением к месту и цели, ей свойственным». [94] И наиболее подобающее любви место, где она царствует в полноте, — это Сердце Христа: «Господи, куда Ты ведешь тех, кого обнимаешь и держишь на руках, как не к Сердцу Своему? Сердце Твое, Иисусе, — сладкая манна Твоей божественности (ср. Евр 9, 4), которую ты хранишь в золотом сосуде души Твоей, превосходящей всякое познание. Блаженны, кого ведут туда Твои объятия. Блаженны, кто, погрузившись в эти глубины, укрыт Тобою в тайне Твоего сердца». [95]
106. В лице святого Бонавентуры сходятся две духовные линии, связанные с Сердцем Христа: с одной стороны, он указывает на него как на источник таинств и благодати, а с другой — говорит о том, что созерцание Сердца ведет к дружбе и личной любовной встрече.
107. С одной стороны, образ Сердца помогает нам осознать красоту благодати и таинств, исходящих из источника жизни, который есть раненый бок Господа: «Чтобы из ребра Христа, уснувшего на кресте, образовалась Церковь и исполнилось слово Писания, — «Воззрят на Того, Которого пронзили», — один из воинов ударил Его копьем, открыв Ему бок. И это было попущено божественным промыслом, чтобы вместе с кровью и водой также цена нашего спасения излилась из сокровенного источника Его сердца, позволяя таинствам Церкви даровать жизнь благодати и таким образом быть для тех, кто живет во Христе, как чаша, наполненная из живого источника, бьющего в жизнь вечную». [96]
108. С другой стороны, Бернард предлагает сделать еще один шаг, чтобы доступ к благодати не был чем-то магическим или своего рода неоплатонической эманацией, но непосредственным отношением со Христом, пребывающим в Своем Сердце, потому что кто пьет [из этого источника], тот друг Христов, сердце любящее: «Итак восстань, душа, подруга Христова, и будь голубкой, гнездящейся в стене пещеры; будь воробьем, нашедшим дом свой и не перестающим его охранять; будь горлицей, скрывающей птенцов своей целомудренной любви в этом самом священном отверстии». [97]
Распространение поклонения Сердцу Христа
109. Мало-помалу пронзенный бок, местопребывание любви Христа и источник благодатной жизни, стал принимать облик Сердца, особенно в монашеской среде. Мы знаем, что почитание Сердца Христова на протяжении истории проявлялось различным образом, и что развившиеся в Новое время аспекты, связанные с определенными духовными переживаниями, не могут по умолчанию приравниваться к средневековым или тем более библейским прообразам, в которых мы видим семена этого культа. Однако сегодня Церковь не пренебрегает ничем из тех благ, которые Святой Дух даровал нам на протяжении веков, потому что она сознает, что всегда возможно распознать более ясный и полный смысл отдельных деталей этого благочестия, или понять и раскрыть его новые стороны.
110. Некоторые святые женщины сообщали о своем опыте переживания встречи со Христом, характерной чертой которого было успокоение в Сердце Господа как источнике жизни и внутреннего мира. Так произошло со святой Лиутгардой, святой Матильдой Хакеборнской, святой Анджелой из Фолиньо, святой Юлианой Нориджской и другими. Святая Гертруда Гельфтская, цистерцианская монахиня, рассказывала о молитвенном переживании, когда она склонила голову на Сердце Христа и слушала его биение. Беседуя в молитве со святым Иоанном Богословом, она спросила его, почему в своем Евангелии он не рассказал о том, что чувствовал, когда пережил то же самое. Гертруда заключает, что «сладость этих ударов [сердца] была сбережена для более поздних времен, чтобы, услышав их, мог обновиться мир, состарившийся и охладевший в любви к Богу». [98] Быть может, это относится к нашим временам, как призыв признать, насколько «обветшал» наш мир и как сильно он нуждается в том, чтобы принять вечно новую весть любви Христовой? Святая Гертруда и Святая Матильда почитались как «наиболее доверенные наперсницы Святейшего Сердца». [99]
111. Картузианцы, воодушевляемые прежде всего Лудольфом Саксонским, через почитание Святейшего Сердца наполнили отношения с Иисусом Христом любовью и близостью. Вступающий в рану Его Сердца воспламеняется Его любовью. Святая Екатерина Сиенская писала, что хотя нам не дано быть очевидцами страстей Господа, почитание открытого Сердца Христова дает нам возможность непосредственной и личной встречи с Его великой любовью: «Я явил вам это в Моем разверстом ребре, где вы можете найти тайну сердца: здесь я могу показать вам, что люблю вас, больше, чем через Мои конечные страдания». [100]
112. Постепенно почитание Сердца Христова выходило за пределы монашества и наполняло духовность святых учителей, проповедников и основателей общин посвященной жизни, распространявших его до пределов земли. [101]
113. Особенно примечательна инициатива святого Иоанна Эда, который «после исполнения весьма ревностной миссии в Ренне вместе со своими миссионерами добился, чтобы монсеньор епископ установил для своей епархии совершение праздника Досточтимого Сердца Господа нашего Иисуса Христа. Тогда впервые этот праздник был официально установлен в Церкви. Впоследствии, между 1670 и 1671 годами, епископы Кутанса, Эвре, Байе, Лизье и Руана также установили подобное празднование в своих епархиях». [102]
Святой Франциск Сальский
114. В эпоху Нового времени особого внимания заслуживает наследие святого Франциска Сальского. Он часто созерцал открытое Сердце Христа и призывал пребывать в Нем в личных любовных отношениях, через которые просвещаются тайны жизни. В наследии этого святого учителя мы можем увидеть, как перед лицом ригоризма и обрядоверия Сердце Христово явилось ему как призыв к совершенному доверию к сокровенному действию Его благодати. Вот как он описывал это в письме баронессе Шанталь: «Мне совершенно ясно, что нам нельзя более оставаться в самих себе […] но что мы призваны, исполнившись доверия, поселиться в пронзенном боку Спасителя; ведь без Него, в сущности, мы не только ничего не можем, но даже если бы и могли, то не пожелали бы ничего делать». [103]
115. Благочестие для Франциска не могло быть ни формой суеверия, ни неуместным «овеществлением» благодати, поскольку оно в первую очередь является приглашением к личным отношениям. В этих отношениях каждый человек чувствует себя перед лицом Христа тем, кого Тот непосредственным и исключительным образом замыслил, увидел, познал и принял: «В сем достойном всякого почитания и любви Сердце нашего Учителя, горящем любовью к нам, начертаны все наши имена […]. Поистине, величайшее утешение — быть столь возлюбленными Господом, который всегда носит нас в Своем Сердце». [104] Через образ имени, записанного в Сердце Христа, святой Франциск Сальский пытался символически выразить, что любовь Христа к каждому человеку не является абстрактной или общей, но глубоко личной, благодаря чему каждый верующий ощущает, что он признан и принят ради него самого: «Ах, дочь моя, как прекрасны небеса теперь, когда Спаситель стал в них солнцем, а пронзенный бок Его — источником любви, из которого блаженные утоляют жажду вдоволь. Всякий, созерцающий себя в нём, видит свое имя, записанное буквами любви, которые только любовь и может прочесть и любовь одна и может написать. Ах, дочь моя, разве и наши имена не будут в нём? Несомненно, они будут там, потому что, даже если в нашем сердце и нет любви, но есть желание любви и начало любви». [105]
116. Франциск считал этот опыт основополагающим для духовной жизни, одной из великих истин веры: «Да, моя дорогая дочь, Он думает о Вас, и не только о Вас, но и о малейшем из волос на вашей голове (ср. Мф 10, 30; Лк 21, 18); это истина веры, в которой мы ни в коем случае не можем сомневаться». [106] Благодаря этому верующий оказывается способен полностью довериться Сердцу Христову, в котором обретает покой, утешение и силу: «О Боже, какое счастье пребывать в объятиях и на груди [Спасителя]. […] Оставайтесь там, дорогая дочь, подобно юному святому Иоанну. И пока другие вкушают разные яства за столом Спасителя, Вы склоните и возложите с простым доверием свою голову, свою душу, свой дух на преисполненную любви грудь драгоценного Господа». [107] «Надеюсь, что Вы духом пребываете в пещере горлицы, в пронзенном боку нашего дорогого Спасителя. […] Как благ Господь, о моя дорогая дочь! Как прекрасно Его сердце! Пребудем там, в этой святой обители». [108]
117. Однако, оставаясь верным своему учению об освящении в обычной жизни, Франциск рекомендует переживать этот опыт именно посреди повседневных дел, задач и обязанностей: «Вы спрашиваете меня, как следует поступать душам, которых в молитве влечет к святой простоте и совершенному преданию себя Богу? Отвечаю, что не только в молитве, но и во всех жизненных делах они должны неизменно пребывать в духе простоты, предоставляя и вверяя всю свою душу, свои действия и свои достижения промыслу Божию, с любовью, исполненной совершенного и абсолютного доверия, предавшись милости и заботе вечной любви Божественного Провидения». [109]
118. Размышляя о символе, который мог бы выразить подобного рода духовную жизнь, святой приходит к такому выводу: «Я подумал, моя дорогая Мать, что если Вы согласитесь, то нам следует принять в качестве нашего герба Сердце, пронзенное двумя стрелами и увитое терновым венцом». [110]
Новое признание в любви
119. Именно под благотворным влиянием духовности святого Франциска Сальского в конце XVII века произошли события в Паре-ле-Моньяле. Святая Маргарита Мария Алакок свидетельствовала о замечательных явлениях Христа, произошедших с конца декабря 1673 года по июнь 1675 года. Важнейшим в них было признание в любви, которым было отмечено первое явление. Иисус сказал ей: «Мое Божественное Сердце настолько горячо любит людей, что оно не может дольше удерживать в себе пламя этой пылающей любви. Оно должно излиться на них через тебя и показать себя им, и обогатить их своими драгоценными сокровищами». [111]
120. Рассказ святой Маргариты Марии полон силы и волнения: «[Христос] открыл мне чудеса Своей Любви и неизъяснимые тайны Своего Святейшего Сердца, которые были скрыты от меня до того мгновения, когда Он явил их мне в первый раз. И Он сделал это настолько реальным и осязаемым образом, что не оставил мне и тени сомнения». [112] В последующих явлениях эта весть повторялась вновь: «Он открыл мне неизъяснимые чудеса Своей чистой любви и до какой степени Он возлюбил человечество». [113]
121. Это откровение любви Иисуса, переданное нам Святой Маргаритой Марией, побуждает нас к обновлению наших отношений с Ним. Это не значит, что мы обязаны признать и принять во всех деталях ее духовный опыт, в котором, как это обычно бывает, божественное действие соединено с вещами, обусловленными желаниями, заботами и представлениями конкретного человека. [114] Любой такой опыт нуждается в обновленном прочтении в свете Евангелия и всей богатейшей духовной традиции Церкви, даже если он принес большую пользу многим сестрам и братьям. Это позволяет распознавать дары Святого Духа в этом переживании веры и любви. Но важнее отдельных деталей суть послания, которое нам передано и которое можно подытожить в словах, услышанных святой Маргаритой Марией: «Вот Сердце, которое так возлюбило людей, что не жалеет ничего, даже изнурять и снедать Себя, чтобы свидетельствовать свою любовь». [115]
122. Это явление приглашает нас возрастать в общении с Христом через безусловное доверие, вплоть до полного и окончательного единения с Ним: «Пусть божественное Сердце Иисуса заместит наше сердце настолько, чтобы только оно жило и действовало в нас и для нас; чтобы Его воля […] могла действовать в нас совершенно без всякого сопротивления с нашей стороны; и наконец, чтобы Его чувства, Его мысли, и Его желания заместили наши собственные, но превыше всего — Его любовь, которою Он будет любить Себя самого в нас и для нас. Таким образом Его любящее сердце станет для нас всем во всём, и мы сможем сказать вместе со святым Павлом, что уже не мы живем, но что Он живет в нас». [116]
123. В первом откровении, полученном Маргаритой Марией, она описывает это переживание еще более личным и конкретным образом, исполненным пыла и нежности: «Он потребовал мое сердце, и я молила Его взять его. Он сделал это и поместил его в Свое Обожаемое Сердце, в котором Он позволил мне увидеть его как мельчайшую частичку, которая была поглощена в этой огненной печи». [117]
124. В другом месте очевидно, что отдающий Себя нам — это воскресший Христос, исполненный славы, жизни и света. Даже если иногда Он говорит о страданиях, которые Он претерпел ради нас, и о неблагодарности, которую Он получает от нас в ответ, главное здесь это не кровь и муки, а свет и огонь Живущего. Раны Его Страстей не исчезают, но преображаются. Таким образом, Пасхальная тайна явлена здесь во всей своей полноте: «Однажды, […] когда Святые Дары были выставлены для поклонения, […] Иисус Христос, мой сладчайший Владыка, явил мне Себя весь сияющий славой, и Его пять ран блистали словно пять солнц. Пламя вырывалось из всех частей Его святейшей человечности, но в особенности из Его возлюбленной груди, которая была подобна огненной печи. Отверзши ее, Он указал Мне на Свое любящее и прелюбимое Сердце, живой источник этого пламени. Тогда-то Он открыл мне неизъяснимые чудеса Своей пречистой Любви, и до какой крайности Он возлюбил людей, от которых не получил взамен ничего, кроме неблагодарности и равнодушия». [118]
Святой Клод де ла Коломбьер
125. Узнав о явлениях, дарованных святой Маргарите Марии, святой Клод (Клавдий) де ла Коломбьер немедленно стал их защитником и популяризатором. Ему принадлежит особая роль в распространении почитания Святейшего Сердца и его понимания в свете Евангелия.
126. Если некоторые высказывания святой Маргариты Марии, будучи неправильно понятыми, могут привести к чрезмерному упованию на собственные жертвы и усилия, то святой Клавдий показывает, что подлинное созерцание Сердца Христова не вызывает в человеке ни самодовольства, ни тщеславия из-за собственных переживаний и усилий, но напротив — неописуемое упование на Христа, наполняющее жизнь миром, уверенностью и решимостью. Это абсолютное доверие он прекрасно выразил в известной молитве:
«Боже мой, я совершенно уверен, что Ты призираешь на тех, кто надеется на Тебя, и что не будут ни в чем нуждаться те, кто всецело уповает на Тебя. Поэтому я полон решимости в будущем жить, не беспокоясь ни о чем, возлагая все заботы на Тебя […]. Я никогда не потеряю надежды, сохраню ее до последнего мгновения моей жизни; и все адские демоны напрасно будут трудиться отнять ее у меня […]. Пусть одни ожидают счастья от своих богатств или талантов, а другие полагаются на непорочность своей жизни, строгость своего покаяния, обилие своей милостыни или пылкость своих молитв […]. Я же, Господи, всё свое упование возлагаю на Тебя, Ты — мое упование. И это упование никогда никого не обманывало […]. Я уверен, что буду вечно счастлив, потому что твердо на это надеюсь, и потому что надеюсь обрести это от Тебя, Боже мой». [119]
127. В январе 1677 года святой Клод написал несколько строк, где говорит об уверенности, которую чувствует в отношении своей миссии: «Я узнал, что Богу угодно, чтобы я служил Ему, исполняя Его пожелания относительно того благочестия, предложенного Им одной особе, с которой Он общается чрезвычайно доверительно, и ради которой Он пожелал воспользоваться моей слабостью. Я уже вдохновил [этим благочестием] немало людей». [120]
128. Нужно отметить, что духовности Коломбьера присуще удачное сочетание богатого и прекрасного духовного опыта святой Маргариты Марии и весьма конкретного способа созерцания, содержащегося в Игнатианских упражнениях. В частности, он писал в начале третьей недели тридцатидневных упражнений: «Две вещи чрезвычайно тронули меня. Во-первых, это готовность, с которой Иисус шел навстречу тем, кто Его искал. Сердце Его погружено в ужасную горечь; все страсти в Нем возмущены, вся природа пришла в смятение, и посреди этого смятения, посреди искушения Его Сердце обращается непосредственно к Богу; Он не колеблется предпринять тот шаг, который внушает Ему добродетель, высшая добродетель. Второе — это отношение Его Сердца к предавшему Его Иуде, к трусливо оставившим Его апостолам, к первосвященникам и другим виновникам воздвигнутых на Него гонений; всё это не смогло возбудить в Нем ни малейшего чувства ненависти или негодования. Потому это Сердце представляется мне лишенным всякой горечи, всякой злобы, исполненным истинной нежности к своим врагам». [121]
Святой Шарль де Фуко и святая Тереза Младенца Иисуса
129. Святой Шарль де Фуко и святая Тереза Младенца Иисуса, сами на то не претендуя, послужили обновлению почитания Сердца Христова и его понимания более соответствующим Евангелию образом. Посмотрим, как это благочестие проявилось в их жизни. В следующей главе мы еще вернемся к ним, чтобы показать то особое миссионерское измерение, которое оба они привнесли в почитание Святейшего Сердца.
Iesus Caritas
130. Однажды в городе Луи, когда святой Шарль де Фуко вместе со своей родственницей, мадам де Бонди, молился перед Пресвятыми Дарами, она указала ему на одно изображение Святейшего Сердца. [122] Эта самая родственница сыграла важную роль в обращении Шарля, как он сам это признает: «Поскольку добрый Господь сделал Вас первым орудием Своей милости ко мне, то и вся она исходит от Вас: если бы Вы не обратили меня, не возвратили бы к Иисусу, если бы Вы не научили меня постепенно, слово за словом, тому, что такое добро и благочестие, разве был бы я сегодня здесь?» [123] То, что ей удалось пробудить в нём, было именно пылкое осознание любви Иисуса. Здесь можно найти всё, это самое главное. И это осознание особым образом выразилось в почитании Сердца Христа, в котором Шарль познал Его безграничное милосердие: «Будем надеяться на бесконечное милосердие Того, Чье Святейшее Сердце Вы мне открыли». [124]
131. Позже его духовный наставник, отец Анри Ювелен, поможет ему глубже проникнуть в эту драгоценную тайну: «Благословенное Сердце, о котором Вы так часто говорили нам». [125] 6 июня 1889 года Шарль посвятил себя Святейшему Сердцу, в котором он обрел совершенную любовь. Он говорит Христу: «Ты одарил меня столькими благодеяниями, что было бы неблагодарным по отношению к Твоему Сердцу не поверить, что оно готово исполнить меня всяким благом, сколь велико бы оно ни было, и что его любовь и щедрость безмерны». [126] Став отшельником, он изберет для себя имя в честь Святейшего Сердца. [127]
132. 17 мая 1906 года, в тот самый день, когда брат Шарль уже не мог в одиночку служить Мессу, он записал такое постановление: «Позволить Сердцу Иисуса жить во мне, чтобы уже не я жил, но Сердце Иисуса жило во мне, как Он жил в Назарете». [128] Такая сердечная дружба с Иисусом не имела ничего общего с фамильярным благочестием. Это была суть той предельной в своей простоте жизни в Назарете, через которую Шарль стремился подражать Христу и уподобляться Ему. Это исполненное нежности почитание Сердца Христова имело весьма конкретные последствия для его образа жизни, и источником его «Назарета» были его глубоко личные отношения с Сердцем Христа.
Святая Тереза Младенца Иисуса
133. Как и святой Шарль де Фуко, святая Тереза Младенца Иисуса дышала той же атмосферой чрезвычайного благочестия, охватившего Францию в XIX веке. Священник Альмир Пишон, бывший духовным наставником ее семьи, прославился как выдающийся проповедник Святейшего Сердца. Одна из родных сестер Терезы приняла монашеское имя Мария Святейшего Сердца, и монастырь, в который поступила святая, был также посвящен Святейшему Сердцу. Однако ее благочестию были присущи некоторые особенности, выходящие за рамки общепринятых.
134. Пятнадцатилетняя Тереза так описывала свои отношения с Иисусом: «Тот, чье сердце бьется вместе с моим». [129] Два года спустя, когда с ней заговорили о Сердце, увенчанном терновым венцом, она отметила в письме: «Должна признаться, что смотрю на Святейшее Сердце Иисуса иначе, чем все. Думаю, что сердце моего Жениха принадлежит только мне, так же, как и мое принадлежит только Ему. Я беседую с Ним в одиночестве, тихо пребывая душой подле Его сердца и ожидая встречи с Ним лицом к лицу». [130]
135. В одном стихотворении она выразила суть своего благочестия, основанного скорее на дружбе и доверии, нежели на расчете на свои жертвы:
«Я нуждаюсь в сердце, пылающем нежностью,
Чтобы оно всегда было моею опорой
И любило бы во мне всё, даже слабость,
Не покидая меня ни на минуту. […].
Значит, нужен мне Бог с моим естеством,
Он бы стал моим братом и познал бы страдание! […].
Я знаю хорошо, что праведные мысли
И жертвы пред Тобой не стоят ничего, […].
Меня очистит жар Твоей любви,
О, Сердце Бога моего, Избранник мой!». [131]
136. Пожалуй, важнейший текст для понимания ее почитания Сердца Христова — это письмо, написанное за три месяца до смерти ее другу Морису Бельеру: «Когда я созерцаю Магдалину, среди многочисленных гостей идущую, чтобы умыть слезами ноги обожаемого Учителя, к которому она впервые прикасается, я чувствую, что ее сердце познало бездны любви и милосердия Сердца Иисуса и что это исполненное любви Сердце не только готово простить ее, грешницу, но и расточить на нее блага своей божественной близости, и возвести ее до высот созерцания. Ах, мой дорогой маленький брат, с тех пор как мне было даровано так понять любовь Сердца, признаюсь, это изгнало всякий страх из моего сердца. Память о моих недостатках смиряет меня и заставляет никогда не полагаться на свои силы, которые есть не что иное, как слабость; но еще более это воспоминание говорит мне о милосердии и любви». [132]
137. Морализаторы, которым хотелось бы управлять Божией милостью и благодатью, скажут, что Тереза могла сказать такое лишь потому, что она была святой, тогда как грешник не мог бы сказать такого. Однако они упускают из виду прекрасную новизну духовности Терезы, отражающую самую суть Евангелия. Увы, подобное желание «запереть» Святого Духа в некую схему, позволяющую все объяснить и контролировать, стало общим местом в некоторых христианских кругах. Однако Тереза, как мудрый Учитель Церкви, опровергает их и прямо возражает этому ущербному толкованию следующими очень ясными словами: «Если бы я совершила все возможные преступления, то и тогда имела бы ту же уверенность, поскольку чувствую, что всё это множество преступлений было бы как капля воды, брошенная в горящий очаг». [133]
138. В письме, которое сегодня считается одной из вех в истории духовности, Тереза подробно отвечала своей сестре Марии, хвалившей ее за щедрую любовь к Богу, вплоть до готовности к мученической смерти. Это письмо стоит того, чтобы перечитывать его тысячу раз из-за его глубины, ясности и красоты. В нем она помогает своей сестре, Марии Святейшего Сердца, выйти за пределы аспекта страдания, с которым связано это благочестие, поскольку некоторые понимали умилостивление прежде всего как жертву или как морализаторское исполнение долга. Однако для Терезы совершенство состоит в доверии — лучшей жертве, приятной Сердцу Христову: «Мое желание мученичества — это ничто; не это желание дает мне безграничную уверенность, которую я ощущаю в своем сердце. По правде говоря, духовные богатства могут служить неправде, если человек самодовольно почивает на них и почитает их за нечто великое. […] Господу приятно видеть, как я люблю свою малость и бедность, свою слепую надежду на Его милость! Вот мое единственное сокровище. […] Если Вы ищете радости или сосредоточены на страдании, то Вы ищете собственного утешения. […] Поймите: когда речь идет о том, чтобы любить Иисуса, стать жертвой Его любви, то чем ты слабее, без всяких желаний или добродетелей, тем более способен открыться действию этой всепоглощающей и преобразующей Любви! […] О, как бы мне хотелось, чтобы Вы поняли, что я чувствую! Именно доверие и не что иное, как доверие, должно привести нас к Любви!» [134]
139. Во многих текстах Терезы мы замечаем борьбу против форм духовности, чрезмерно сосредоточенных на человеческих усилиях, на собственных заслугах, на принесении жертв, на исполнении определенных обязательств, чтобы «заслужить рай». Для нее же «заслуга состоит не в том, чтобы много делать или давать, а в том, чтобы получать». [135] Перечитаем еще раз несколько важных текстов, где она настаивает на этом простом и скором пути «завоевать» Сердце Господа.
140. Вот что она пишет своей сестре Леони: «Уверяю Вас, Бог гораздо добрее, чем Вы думаете: Он довольствуется взглядом, вздохом любви. Что до меня, то мне очень легко практиковать совершенство, потому что я поняла, что всё, что нужно сделать, это принять Иисуса сердцем! Посмотрите на дитя, которое только что рассердило свою мать. […] Если оно протянет к ней свои ручонки, улыбнется и скажет: «Обними меня, я больше так не буду», не прижмет ли мать его с нежностью к сердцу и не забудет ли о детских недостатках? При этом мать хорошо знает, что это милое дитя при первом же удобном случае начнет все сызнова, но это не имеет никакого значения: если оно снова растрогает сердце матери, то никогда не будет наказано». [136]
141. В письме отцу Адольфу Руллану она говорит: «Мой путь — это путь всецелого доверия и любви; мне непонятны души, боящиеся столь нежного Друга. Когда я читаю некоторые духовные сочинения, в которых совершенство окружено тысячей препятствий и множеством иллюзий, мой бедный дух быстро утомляется. Я закрываю ученую книгу, от которой у меня болит голова и сохнет сердце, и беру Священное Писание. Тогда всё представляется мне исполненным света: одно слово открывает моей душе безграничные горизонты; совершенство кажется мне легким; я вижу, что достаточно познать свое ничтожество и сдаться, как дитя, в объятия доброго Бога». [137]
142. И в письме к священнику Морису Бельеру относительно одного родителя она замечает: «Сомневаюсь, что сердце этого счастливого отца сможет устоять перед искренним доверием его сына, искренность и любовь которого ему известны. И конечно, хотя он точно знает, что его сын еще не раз повторит те же ошибки, однако он готов всегда прощать его, если сын обратится к его сердцу». [138]
Отклик в Обществе Иисуса
143. Мы видели, что святой Клод де ла Коломбьер сочетал духовный опыт святой Маргариты с концепцией Духовных упражнений. Я считаю, что место Святейшего Сердца в истории Общества Иисуса заслуживает краткого упоминания.
144. Духовность Общества Иисуса всегда предлагала «глубокое познание Господа, дабы больше возлюбить Его и совершеннее следовать за Ним». [139] Святой Игнатий в «Духовных упражнениях» предлагает предстать перед Евангелием, где говорится, что «из бока [Иисуса], пронзенного копьем, истекла кровь и вода». [140] Когда упражняющийся оказывается перед раненым боком Христа, Игнатий приглашает его войти в Сердце Христово. Это путь взросления сердца в руках «учителя любви», как пишет святой Петр Фавр в одном из писем святому Игнатию. [141] Отец Хуан Альфонсо де Поланко также говорит об этом в своей биографии святого Игнатия: «[Кардинал Контарини] признавал, что в отце Игнатии обрел учителя чувств (magister affectuum)». [142] Беседы, которые предлагает святой Игнатий, — важнейшая часть этого воспитания сердца для того, чтобы учиться слышать и вкушать сердцем евангельскую весть и беседовать о ней с Господом. Святой Игнатий говорит, что мы можем рассказывать о своих делах Господу и спрашивать у Него совета относительно них. Любому, кто совершает Упражнения, очевидно, что в них происходит этот диалог от сердца к сердцу.
145. Святой Игнатий завершает созерцание у подножия Распятия, предлагая упражняющемуся обратиться с великой любовью к распятому Господу и спросить Его, «как друг говорит с другом, или как слуга со своим господином», чтó он должен сделать для Него. [143] Упражнения завершаются «созерцанием ради обретения любви», из которого возникают благодарение и приношение «памяти, разума и воли» Сердцу, источнику всякого блага. [144] Это внутреннее познание Господа достигается не собственными способностями и усилиями; о нём следует просить как о даре.
146. Подобный опыт лежит в основе духовности долгой череды священников Ордена Иезуитов, которые прямо ссылались на Сердце Иисуса, таких как святой Франциск Борджиа, святой Петр Фавр, святой Альфонсо Родригес, отец Альварес де Пас, отец Винченцо Карафа, отец Каспар Дружбицкий, и многих других. В 1883 году иезуиты провозгласили, что Общество Иисуса «с духом, переполненным радостью и благодарностью, принимает на себя легкое бремя, которое доверил ему Господь наш Иисус Христос, практиковать, поощрять и распространять почитание Его Божественного Сердца». [145] В декабре 1871 года отец Петер Ян Бекс посвятил Общество Святейшему Сердцу Иисуса. Подтверждая, что это посвящение остаётся важной частью жизни Общества, отец Педро Аррупе обновил его в 1972 году, выразив свое убеждение в следующих словах: «Хочу сказать Обществу то, о чем, по моему мнению, нельзя умолчать. Со времени моего новициата я всегда был убежден, что то, что мы называем почитанием Святейшего Сердца, символически выражает глубочайшее ядро игнатианского духа и его исключительную эффективность — ultra quam speraverint — как для личного совершенствования, так и для апостольской плодотворности. Я продолжаю придерживаться того же мнения. […] В этом благочестии — один из самых сокровенных источников моей внутренней жизни». [146]
147. Когда святой Иоанн Павел II призвал «всех членов Общества с еще большим рвением способствовать развитию этого почитания, которое более чем когда-либо отвечает ожиданиям нашего времени», он сделал это именно сознавая тесную связь между почитанием Сердца Христова и игнатианской духовностью: «Стремление “глубоко познать Господа” и сердечно с Ним беседовать стало, благодаря Духовным упражнениям, характерной чертой игнатианского духовного и апостольского динамизма, целиком посвященного любви божественного Сердца». [147]
Долгая традиция внутренней жизни
148. Почитание Сердца Христова стало неотъемлемой частью духовного пути множества самых разных святых, в каждом из которых оно приобретало новые аспекты. Святой Викентий де Поль, например, говорил, что Богу угодно сердце: «Бог просит прежде всего сердце, главное — это сердце. Почему у того, у кого ничего нет, может быть больше заслуг, чем у того, кто отказывается от большого имущества? Потому что те, у кого ничего нет, приходят с бóльшей любовью; и это особенно угодно Богу». [148] Это предполагает признание того, что мое сердце соединено с сердцем Христа: «Монахиня, делающая все возможное, чтобы расположить свое сердце к единению с сердцем Нашего Господа […] — каких только благословений она не получит от Бога!» [149]
149. Существует искушение воспринимать эту тайну любви как примету прошлого, прекрасную духовность минувших времен. Однако нам следует всегда помнить, что, по словам одного святого миссионера, «божественное Сердце, позволившее вражьему копью пронзить себя ради того, чтобы из этой священной раны излились Таинства, образовавшие Церковь, никогда не перестанет любить». [150] Более недавние святые, такие как святой Пий из Пьетрельчины, святая Тереза Калькуттская и многие другие, с глубоким благоговением говорили о Сердце Христовом. Мне особо хотелось бы упомянуть опыт святой Фаустины Ковальской, в котором почитание Сердца Христова сочетается с особым вниманием к прославленной жизни Воскресшего и к Божиему милосердию. Вдохновляемый этим опытом святой и опираясь на духовное завещание, оставленное святым епископом Иосифом Себастьяном Пельчаром (1842–1924) [151], святой Иоанн Павел II неизменно сочетал размышления о милосердии Божием с почитанием Святейшего Сердца: «Представляется, что Церковь особым образом исповедует милость Божию и почитает ее, когда обращается к Сердцу Христа. В самом деле, именно обращение ко Христу в тайне Его Сердца позволяет нам глубже проникнуть в этот аспект […] откровения милосердной любви Отца, составляющего главное содержание мессианской вести Сына Божия, ставшего человеком». [152] О Святейшем Сердце святой Иоанн Павел II говорил глубоко личным образом: «Оно беседовало со мной с юных лет». [153]
150. Непреходящая ценность почитания Сердца Христова наиболее очевидна в евангелизаторском и просветительском служении многочисленных женских и мужских монашеских конгрегаций, с самого своего возникновения отмеченных этим глубоко христологическим духовным опытом. Упомянуть их все было бы невозможно. Приведем лишь два примера, взятых наугад: «Основатель [св. Даниэле Комбони] черпал силу для своей миссионерской деятельности в тайне Сердца Иисуса». [154] «Движимые любовью Сердца Иисуса, мы стремимся помогать людям возрастать как в их человеческом достоинстве, так и в достоинстве сыновей и дочерей Божиих, исходя из Евангелия и его заповедей любви, прощения, справедливости и солидарности с бедными и обездоленными». [155] Посвященные Сердцу Христа святые места, разбросанные по всему миру, стали для множества людей источниками духовности и благочестия. Посылаю свое отеческое благословение всем так или иначе причастным к этим местам веры и милосердной любви.
Благочестие утешения
151. Рана в боку, из которой истекает живая вода, остается открытой и после Воскресения. Эта славная рана, причиненная копьем, как и раны от тернового венца, которые также часто присутствуют на изображениях Святейшего Сердца, неотделимы от этого благочестия, ведь в них мы, по сути, созерцаем любовь Иисуса, отдающего Себя до конца. Сердце Воскресшего сохраняет эти знаки совершенной самоотдачи, связанной с перенесенным ради нас страданием. Поэтому нет ничего странного в том, что верующие желают дать ответ не только на эту великую любовь, но и на боль, которую Христос согласился претерпеть из-за нее.
С Ним на Кресте
152. Эта особенность духовного опыта, сложившегося вокруг Сердца Христа, заслуживает того, чтобы открыть ее заново: речь идет о глубоком желании утешить Его. Я не стану сейчас касаться практики «возмещения», которую считаю более уместным рассмотреть в контексте социального измерения этого благочестия в следующей главе. Сейчас мне хотелось бы остановиться только на самом этом желании, которое часто возникает в исполненном любви сердце верующего человека, когда тот созерцает тайну Страстей Христовых, переживая ее как тайну, которая не только воспоминается, но и по благодати становится присутствующей. Или, лучше сказать, что она позволяет нам мистическим образом присутствовать при событии искупления. И если для нас нет никого дороже нашего Возлюбленного, то как можем мы не желать утешить Его?
153. Папа Пий XI попытался обосновать этот опыт, приглашая нас осознать, что тайна спасения через страдания Христа по благодати Божией превосходит любые ограничения времени и пространства. Поэтому, если Он отдал Свою жизнь на кресте в том числе и за будущие грехи, за наши грехи, то следовательно и наши дела, которые мы совершаем сегодня ради того, чтобы утешить Его, достигнут Его израненного сердца сквозь время: «Если из-за наших грехов, тогда еще только предстоящих, но уже предвиденных Им, душа Христа восскорбела смертельно, нет сомнения в том, что и наше возмещение, которое Он также предвидел, принесло Ему некое облегчение, когда “явился Ангел с неба и утешал Его” (Лк 22, 43), чтобы Его Сердце, стесненное угнетением и тоской, обрело утешение. Итак, даже до сего дня чудесным, но истинным образом мы можем и должны утешать Святейшее Сердце, непрестанно ранимое грехами неблагодарных людей». [156]
Доводы сердца
154. Подобное благочестие кому-то может показаться недостаточно богословски обоснованным. Но у сердца свои доводы. Sensus fidelium [разумение верных] ощущает, что здесь есть нечто таинственное, выходящее за рамки нашей человеческой логики, и что Страсти Христовы — это не просто событие из прошлого, но что мы можем участвовать в них посредством веры. Благочестиво размышлять о крестной жертве Христа — это нечто большее, чем просто вспоминать о ней. Это убеждение прочно укоренено в богословии. [157] К этому добавляется также осознание нашего греха, который Христос понес на Своих израненных плечах, и нашей несостоятельности перед лицом столь великой любви, всегда бесконечно нас превосходящей.
155. В любом случае, у нас возникает вопрос: каким образом можно воспринимать Христа живым, воскресшим, и торжествующим, — и одновременно утешать Его в Его Страстях? Но вспомним, что Его воскресшее Сердце сохраняет свою рану как постоянное напоминание, и что действие благодати вызывает переживания, которые не вмещаются полностью в хронологическое мгновение. Эти два соображения указывают на то, что перед нами мистический путь, превосходящий возможности разума и выражающий то, что подсказывает само Слово Божие. Как пишет Папа Пий, цитируя святого Августина, «“приведи мне одного любящего, и он поймет, чтó я говорю” (In Ioannis evangelium, XXVI, 4). Ибо сильно возлюбивший Бога, если он пожелает обратиться к прежним дням, может остановиться в созерцании Христа, труждающегося для людей, скорбящего, страдающего в великих тяготах, “ради нас и ради нашего спасения” истомленного грустью, тревогой, “изъязвленного за грехи наши” (Ис 53, 5) и исцеляющего нас Своими ранами. И благочестивые души еще старательней созерцают эти деяния, ибо грехи и преступления людей, совершенные в каждом веке, были причиной предания Христа смерти». [158]
156. Это учение Пия XI заслуживает того, чтобы о нем помнить. Поистине, само Писание разрушает наши узкие стереотипы, когда говорит, что верующие, не живущие в согласии со своей верой, тем самым «снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему» (Евр 6,6), или что, страдая за других, я «восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых» (Кол 1, 24), или что Христос во время Своих Страстей молился не только за тех Своих учеников, но и «о верующих в Меня по слову их» (Ин 17, 20). Писание показывает, что прошедшее и настоящее попросту невозможно отделить друг от друга, даже если умом мы не можем этого вместить. Евангелие в его различных аспектах нужно не только осмысливать или вспоминать — им следует жить, как в делах любви, так и во внутреннем опыте, и это особенно верно в отношении тайны смерти и воскресения Христа. Временные категории, которыми пользуется наш разум, неспособны в полной мере вместить этот опыт веры, в котором сочетаются единение со страдающим Христом и одновременно сила, утешение и дружба, которыми мы наслаждаемся с Воскресшим.
157. Здесь мы видим единство Пасхальной Тайны в двух ее нераздельных аспектах, взаимно освещающих друг друга. Эта неповторимая Тайна, силой благодати присутствующая в двух своих измерениях, означает, что, когда мы предлагаем Христу нечто, чтобы Его утешить, наши собственные страдания просвещаются и преображаются пасхальным светом любви. Получается, что мы участвуем в этой Тайне в конкретных обстоятельствах нашей жизни, потому что прежде сам Христос пожелал в ней участвовать. Он, как Глава Тела Церкви, пожелал заранее испытать всё то, что она переживает, и в страдании, и в утешении. Когда мы пребываем в состоянии благодати, это взаимное участие становится нашим духовным опытом. В конце концов, именно Воскресший действием Своей благодати дает нам возможность таинственным образом соединиться с Его Страстями. Верующие в своих сердцах одновременно переживают радость воскресения, и в то же время желают участвовать в судьбе своего Господа. Они выражают готовность участвовать в этой Тайне через свои страдания, усталость, разочарования и страхи, которые являются частью их жизни. В переживании этой Тайны они не одиноки, поскольку все эти раны в равной степени являются соучастием в судьбе всего мистического Тела Христова, пребывающего в святом народе Божием и несущего в себе судьбу Христа во всякое время и во всяком месте истории. Благочестие утешения не является, таким образом, внеисторическим или абстрактным, но оно становится плотью и кровью на пути Церкви.
Сокрушение
158. Неудержимое желание утешить Христа, начинающееся с боли созерцания того, что Он претерпел за нас, питается и искренним признанием нашей несвободы, зависимостей, безрадостности нашей веры, тщетных исканий, и также, помимо конкретных грехов, неспособности нашего сердца соответствовать любви и замыслу Бога. Любовь нуждается в очищении слезами — это помогает нам более искренне искать Бога и быть менее сосредоточенными на себе.
159. Таким образом мы видим, что чем глубже желание утешить Господа, тем глубже и сокрушение нашего сердца, которое «не тождественно чувству вины, унижающему нас и парализующему совесть; это благотворное побуждение, которое своим внутренним огнем исцеляет нас, поскольку сердце, видящее свое зло и сознающее свою греховность, открывается навстречу действию Святого Духа, живой воды, которая орошает наше сердце и вызывает живительные слезы [… ]. Это не жалость к себе, к которой мы очень склонны. […] Слезы сокрушения, напротив, означают серьезное раскаяние в том, что я огорчил Бога своим грехом; это означает признание того, что это мы всегда в долгу перед Богом, а не Он перед нами […]. Как капля точит камень, так и слезы медленно точат ожесточенные сердца. Таким образом, мы становимся свидетелями чуда печали, доброй печали, ведущей к утешению […]. Сокрушение — это не плод нашего труда, но благодать, и поэтому о нем следует просить в молитве». [159] Вот о чем следует просить: «О печали со Христом, полным скорби, о сокрушении с изнемогающим Христом, о слезах, о внутреннем страдании при мысли о стольких страданиях, которые Христос переносит ради нас». [160]
160. Поэтому я прошу, чтобы никто не насмехался над проявлениями благочестия святого и верного народа Божия, вдохновленными желанием утешить Христа. И призываю каждого спросить себя: не больше ли разумности, не больше ли истины и мудрости в некоторых проявлениях этой любви, стремящейся утешить Господа, нежели в холодных, далеких, расчетливых и скудных делах любви, на которые способны мы, мнящие о себе, что обладаем более разумной, развитой и зрелой верой.
Утешаемые, чтобы утешать
161. В этом созерцании Сердца Христа, отдающего Себя до конца, мы обретаем утешение. Скорбь, которую мы ощущаем в своем сердце, уступает место полному доверию, и в конце концов остаются благодарность, нежность, мир; остается Его любовь, которая царствует в нашей жизни. Сокрушение «не ввергает в уныние, но снимает с души бремя, потому что оно воздействует на рану греха, приготовляя нас к принятию ласки Господа». [161] И наши страдания соединены со страданиями Христа на кресте, потому что, когда мы говорим, что благодать позволяет нам преодолевать любые расстояния, это означает также, что Христос, страдая, соединился со всеми страданиями Своих учеников на протяжении всей истории. Поэтому и мы, когда страдаем, можем внутренне утешаться, зная, что вместе с нами страдает Сам Христос. Стремясь утешить Его, мы сами уходим утешенными.
162. Но в определенный момент этого созерцания в сердце верующего должен найти отклик драматический призыв Господа: «Утешайте, утешайте народ Мой» (Ис 40, 1). И нам приходят на ум слова святого Павла, напоминающие о том, что Бог утешает нас, «чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих» (2 Кор 1, 4).
163. Это побуждает нас стремиться глубже понять общинное, социальное и миссионерское измерение подлинного почитания Сердца Христа. Направляя нас к Отцу, Сердце Христово тем самым посылает нас к нашим братьям. В плодах служения, братства и миссии, которые Сердце Христово приносит в нашей жизни, исполняется воля Отца. Таким образом, круг замыкается: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесёте много плода» (Ин 15, 8).
V.
Любовь в ответ на любовь
164. В духовном опыте святой Маргариты Марии Алакок, наряду с пылким признанием в любви к Иисусу, мы находим и глубоко личное приглашение отдать свою жизнь Господу. Сознание того, что мы любимы, и полное доверие к этой любви никоим образом не умаляет безграничного желания воздать за эту любовь в меру наших малых и ограниченных возможностей.
Жалоба и просьба
165. Начиная со второго явления, Иисус говорит святой Маргарите о Своей скорби из-за того, что в ответ на Его великую любовь к людям Он «не получил взамен ничего, кроме неблагодарности и равнодушия», «холодности и презрения». «Это намного более мучительно для Меня, чем всё, что Я претерпел в Моих Страстях», — говорит Он. [162]
166. Иисус говорит о Своей жажде быть любимым, показывая нам, что Его Сердцу не безразлично, как мы отвечаем на Его призыв: «Я жажду, Я так горячо жажду быть возлюбленным людьми в Пресвятых Дарах, что эта жажда снедает меня. Однако Я не нахожу никого, кто стремился бы утолить Мою жажду в ответ на Мою любовь». [163] Иисус просит о любви. И естественный отклик верующего сердца — это ответная любовь, а не умножение жертв или исполнение тяжкого долга. Но это вопрос любви: «Я обрела от Бога моего необыкновенную благодать Его Любви; мною движет желание ответить Ему взаимностью и одарить Его любовью за любовь». [164] Именно этому учит Лев XIII, написавший, что через образ Святейшего Сердца милосердие Христа «побуждает нас к любви в ответ на любовь». [165]
Распространять Его любовь на братьев и сестер
167. Следует вернуться к Слову Божиему, чтобы осознать, что лучший ответ на любовь Его Сердца — это любовь к братьям; вот лучшее, что мы можем предложить Ему в ответ на Его любовь. Слово Божие говорит об этом совершенно ясно:
«Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25, 40).
«Ибо весь закон в одном слове заключается: “люби ближнего твоего, как самого себя”» (Гал 5, 14).
«Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти» (1 Иоанна 3,14).
«Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин 4, 20).
168. Любовь к братьям не возникает сама собой, это не результат наших естественных усилий, но она требует преображения нашего эгоистичного сердца. Тогда спонтанно возникает известная молитва: «Иисус, сотвори сердца наши подобными сердцу Твоему». Именно поэтому апостол Павел не говорит нам: «старайтесь творить добрые дела», но увещает: «в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп 2, 5).
169. Следует помнить, что в Римской империи множество бедных, странников, и иных отверженных людей находили у христиан уважение, внимание и заботу. Этим объясняются рассуждения императора Юлиана Отступника, задававшегося вопросом: почему христиан уважают и следуют за ними. Он пришел к выводу, что одна из причин — это их стремление помогать бедным и странникам, которых Империя игнорировала и презирала. Императору была нестерпима мысль, что его бедняки не получают помощи, тогда как ненавистные христиане «кормят всех вместе — и своих и наших». [166] В одном из писем он требует создавать благотворительные учреждения, чтобы соперничать с христианами и заслужить уважение общества: «Устраивайте во всяком городе многочисленные больницы, чтобы чужестранцы пользовались там нашим человеколюбием. […] приучи эллинов к этим делам благотворительности». [167] Разумеется, он не достиг своей цели, потому что за этими действиями не было христианской любви, позволявшей признать уникальное достоинство каждого человека.
170. Отождествившись с самыми незначительными членами общества (см. Мф 25, 31–46), «Иисус принес великое новшество — признание достоинства каждого человека, и прежде всего тех, кто был отнесен к категории “недостойных”. Этот новый принцип в человеческой истории, согласно которому человек тем более “достоин” уважения и любви, чем более он слаб, несчастлив и страдает, вплоть до утраты самого человеческого “образа”, изменил лицо мира, положив начало общественным институтам, призванным заботиться о людях, оказавшихся в неблагоприятных условиях: оставленным новорожденным, сиротам, одиноким старикам, душевнобольным, людям, страдающим неизлечимыми заболеваниями или серьезными пороками развития, бездомным». [168]
171. Созерцание пронзенного Сердца Господа, Который «взял на Себя наши немощи и понес болезни» (Мф 8, 17), помогает нам быть более внимательными к страданиям и нуждам других людей, и укрепляет нас для того, чтобы участвовать в Его служении освобождения и быть орудиями Его любви. [169] Размышляя о жертве, принесенной Христом ради каждого из нас, мы невольно задаемся вопросом, почему мы не способны отдать свою жизнь за других: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев» (1 Ин 3, 16).
Отзвуки в истории духовности
172. Эта связь между почитанием Сердца Иисуса и служением братьям проходит через всю историю христианской духовности. Рассмотрим несколько примеров.
Быть источником для других
173. Начиная с Оригена, многие Отцы Церкви истолковывали текст Иоанна 7, 38 — «у того из чрева потекут реки воды живой» — как относящийся к самому верующему, хотя это является следствием того, что тот испил из источника Христа. Таким образом, цель нашего единения с Христом — не только утолить собственную жажду, но стать источником живой воды для других. Ориген говорил, что Христос исполняет свое обещание, источая потоки воды из нас: «Душа человека, сотворенная по образу Божию, может заключать в себе и изливать из себя колодцы, источники и реки». [170]
174. Святой Амвросий призывал пить от Христа, «чтобы умножился в вас источник воды, текущий в жизнь вечную». [171] А Марий Викторин утверждал, что Святой Дух дает Себя с таким избытком, что «всякий принимающий Его становится чревом, из которого изливаются реки живой воды». [172] Святой Августин говорил, что эта река, истекающая из верующего, есть благожелательность. [173] Св. Фома Аквинский соглашался с этим, говоря, что, когда некто «спешит сообщить другим различные дары благодати, полученные им от Бога, живая вода течет из его груди». [174]
175. В самом деле, если «крестная жертва, принесенная в любви и послушании, доставляет преизобильное и бесконечное удовлетворение за грехи рода человеческого», [175] то Церковь, рожденная из Сердца Христова, продлевает и сообщает во всякое время и всяком месте действие единственно искупительных Страстей, направляющих людей к непосредственному единению с Господом.
176. Посредничество Марии, Заступницы и Матери, внутри Церкви можно понимать только «как участие в этом единственном источнике, который есть посредничество Самого Христа», [176] единственного Искупителя, и «Церковь без колебаний исповедует это подчиненное служение Марии». [177] Почитание сердца Марии, по сути, имеет целью не отнять нечто от безусловного поклонения, подобающего Сердцу Христа, а как раз побуждать к нему: «Материнское же служение Марии по отношению к людям никоим образом ни затемняет, ни умаляет этого единственного посредничества Христа, но являет его силу». [178] Благодаря великому источнику, истекающему из пронзенного бока Христа, Церковь, Мария и все верующие по-своему становятся каналами живой воды. Таким образом Сам Христос являет Свою славу в нашей малости.
Братство и мистика
177. Святой Бернард, призывая к единению с Сердцем Христа, использовал богатство этого благочестия, чтобы приглашать к изменению жизни, основанному на любви. Он считал, что исцеление чувств, порабощенных удовольствиями, возможно не через слепое подчинение требованиям, а как ответ на сладость Христовой любви. Зло побеждается добром, зло побеждается умножением любви: «Итак возлюби Господа Бога твоего всем умилением сердца твоего, возлюби Его всем вниманием и заботой разума, потом возлюби Его всеми силами твоими; не бойся умереть за Его любовь […]. Пусть Господь Иисус будет сладостным и приятным твоим чувствам, вопреки приятным, но губительным искушениям плотской жизни; пусть сладость победит сладость, как гвоздь выбивает гвоздь». [179]
178. Св. Франциск Сальский вдохновлялся прежде всего просьбой Иисуса: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф 11, 29). Таким образом, говорил он, мы в самых простых и обыденных делах можем завоевать сердце Господа: «Он будет только радоваться с нами, если мы позаботимся о том, чтобы хорошо служить Ему как в больших и важных, так и в малых и незначительных делах». И тем, и другим мы можем завоевать Его сердце […]. Переноси кротко те небольшие огорчения, печали и неудачи, которые встречаются ежедневно, как то: головная боль, зубная боль, разбитый стакан, неприветливый или презрительный взгляд, потеря перчаток или носового платка, или брошки, необходимость рано вставать утром, чтобы помолиться и причаститься; тот небольшой стыд, который вы испытываете, совершая дела благочестия публично; короче, любые малые невзгоды, принятые с любовью, доставляют бесконечное удовлетворение божественному Благу». [180] Но, в конечном счете, ключ к нашему ответу на любовь Сердца Христова — это любовь к ближнему: «Любовь устойчивая, постоянная, неизменная, которая, не останавливаясь ни на мелочах, ни на качествах или состояниях людей, не подвержена ни переменам, ни неприязни. […] Господь наш любит нас непрестанно, терпит наши недостатки и несовершенства; поэтому мы должны делать то же самое по отношению к нашим братьям, никогда не уставая терпеть их». [181]
179. Святой Шарль де Фуко желал подражать Иисусу: жить, как Он жил, поступать, как Он поступал, и всегда делать то, что сделал бы на его месте Иисус. Чтобы полностью исполнить эту цель, он должен был сообразываться с чувствами Сердца Христова. Здесь вновь появляется выражение «любовь за любовь», когда он говорит: «Я желаю страдать, чтобы воздать любовью за любовь; […] участвовать в Его деле, и предложить себя, каким бы ничтожным я ни был, вместе с Ним как жертву для освящения людей». [182] Это стремление нести любовь Иисуса, быть миссионером ради самых бедных и самых забытых на земле людей, побудили его взять в качестве девиза слова Iesus Caritas («Иисус — любовь») вместе с символом Сердца Христова, увенчанного крестом. [183] Это не было поверхностным решением: «Всеми силами я пытаюсь показать, доказать этим бедным заблудшим братьям, что наша религия — это вся милосердная любовь, всё братство, и что символом её является Сердце». [184] Его желанием было вместе с другими братьями поселиться «в Марокко во имя Сердца Иисуса». [185] Таким образом, их служение евангелизации стало бы подобным «излучению»: «Братство должно лучиться милосердной любовью, как лучится ею сердце Иисуса». [186] Это желание постепенно сделало его вселенским братом, потому что, позволив себе формироваться Сердцем Христа, он хотел принять в своем братском сердце все страждущее человечество: «Наше сердце, как сердце Церкви, как сердце Иисуса, должно обнять всех людей». [187] «Любовь Сердца Иисуса к людям, эта любовь, которую Он проявляет в Своих Страстях, вот что мы должны иметь для всех людей». [188]
180. Отец Ювелен, духовный наставник святого Шарля де Фуко, говорил: «Когда наш Господь вселяется в сердце, Он внушает ему подобные чувства, и тогда это сердце становится открытым для самых малых. Таким было сердце Викентия де Поля. […] Когда наш Господь обитает в душе священника, Он делает его благосклонным к бедным». [189] Важно отметить, что эта благосклонность святого Викентия, которую описывает отец Ювелен, также происходила из почитания Сердца Христа. Викентий призывал «черпать из Сердца Господа слова утешения для бедных больных людей». [190] Для этого сердце должно быть преображено любовью и кротостью Сердца Христа. И святой Викентий так часто повторял эти слова в своих проповедях и наставлениях, что они стали важным пунктом в уставе его общины: «Все в равной степени да будут прилагать величайшие усилия, чтобы усвоить урок, который преподал нам Иисус: “Hаучитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем ”; c уверенностью, — как Он сам говорит, — что землю наследуют кроткие, поскольку, практикуя эту добродетель, мы завоевываем сердца людей, чтобы привести их ко Христу; эта цель не может быть достигнута теми, кто обращается со своими ближними слишком жестко и непреклонно». [191]
Возмещение: строить на руинах
181. Всё сказанное позволяет нам в свете Слова Божия понять, какой смысл мы вкладываем в «возмещение», предлагаемое Сердцу Христа, и какого именно возмещения Господь в действительности ожидает от нас с помощью Его благодати. На этот счет было много дискуссий, однако святой Иоанн Павел II предложил ясный ответ, чтобы наставить нас, сегодняшних христиан, в духе возмещения, наиболее соответствующего Евангелию.
Социальный смысл возмещения Сердцу Христа
182. Св. Иоанн Павел II объяснил, что если мы приносим себя [в жертву Богу] вместе с Сердцем Христа, то «на руинах, нагроможденных ненавистью и насилием, может быть построена цивилизация желанной любви, Царство Сердца Христова». Это, конечно, подразумевает, что мы способны «соединить сыновнюю любовь к Богу с любовью к ближнему»: таково «истинное возмещение, которого требует Сердце Спасителя». [192] На руинах, в которые мы превращаем этот мир своими грехами, мы призваны вместе с Христом строить новую цивилизацию любви. Вот каково возмещение, которого ожидает от нас Сердце Христово. Посреди катастрофы, вызванной злом, Сердце Христово нуждается в нашем сотрудничестве, чтобы восстановить добро и красоту.
183. Несомненно, что всякий грех наносит вред Церкви и обществу, и потому «любому греху можно приписать […] характер социального греха», что особенно справедливо для некоторых грехов, которые «составляют по самой своей сути прямое посягательство на ближнего». [193] Святой Иоанн Павел II пояснял, что повторение этих грехов против других приводит к консолидации «структур греха», влияющих на развитие народов. [194] Часто это становится частью господствующего менталитета, который считает нормальным или рациональным то, что на самом деле является лишь эгоизмом и безразличием. Это явление можно определить как социальное отчуждение: «Отчужденным становится общество, которое в своих формах социальной организации, производстве и потреблении затрудняет реализацию этого дара и формирование межчеловеческой солидарности». [195] Сопротивляться этим отчужденным социальным структурам, обнажать их и развивать социальный динамизм, восстанавливающий и созидающий добро, нас побуждает не просто моральная норма, но то самое «обращение сердца», которое внушает нам «обязанность» [196] исцелять эти структуры. В этом заключается наш ответ Сердцу Иисуса Христа, которое любит и учит нас любить.
184. Именно потому, что евангельское возмещение имеет столь сильное социальное значение, и для того, чтобы наши дела любви, служения и примирения были эффективными, необходимо, чтобы Христос побуждал их, мотивировал их и делал их возможными. Как сказал святой Иоанн Павел II, для построения цивилизации любви сегодняшнему человечеству необходимо Сердце Христа. [197] Христианское возмещение невозможно понимать только как набор внешних дел, при том, что они необходимы, а иногда и достойны восхищения. Но оно требует духовности, души, и смысла, придающих ему силу, импульс и неутомимое творчество. Ему нужна жизнь, огонь и свет, исходящие из Сердца Христова.
Исцеление раненых сердец
185. Более того, только внешнего возмещения недостаточно ни для мира, ни для Сердца Христова. Если каждый из нас задумается о своих грехах и их последствиях для других, то обнаружит, что исправление ущерба, нанесенного этому миру, предполагает также желание исцелять раненые сердца — там, где причинен самый глубокий ущерб, самая болезненная рана.
186. Дух возмещения «приглашает нас надеяться, что каждая рана может быть исцелена, даже если она глубока. Иногда, когда имущество или близкие потеряны безвозвратно или когда определенные ситуации стали необратимыми, полное возмещение представляется невозможным. Однако намерение исправить ситуацию и сделать это конкретным образом имеет важное значение для примирения и исцеления сердца». [198]
Просить прощения
187. Одних лишь благих намерений недостаточно; необходим внутренний динамизм желания, вызывающий внешние последствия. По сути, «возмещение, чтобы быть христианским, тронуть сердце обиженного, а не быть простым актом коммутативной справедливости, требует двух вещей: признания себя виновным и просьбы о прощении. […] Именно из честного признания зла, причиненного брату, и из глубокого и искреннего сознания того, что была оскорблена любовь, рождается желание загладить свою вину». [199]
188. Не следует думать, будто признание своего греха перед другими есть нечто, что унижает нас или вредит нашему человеческому достоинству. Наоборот, это значит перестать лгать самому себе, и признать свою историю такой, какая она есть, отмеченной грехом, особенно если мы причинили вред своим братьям: «Признать себя виновным — часть христианской мудрости. […] Это угодно Господу, потому что Он не презрит сокрушенного сердца». [200]
189. Частью этого духа возмещения является привычка просить прощения у наших братьев; это знак большого благородства перед лицом нашей хрупкости. Просьба о прощении — это возможность исцелить отношения, поскольку она «возобновляет диалог и демонстрирует желание восстановить связь в братской любви. […] Это трогает сердце брата, утешает его и побуждает даровать испрашиваемое прощение». Таким образом, «даже если непоправимое и не может быть полностью исправлено, любовь всегда может возродиться, сделав рану терпимой». [201]
190. Сердце, способное на умиление, может возрастать в братстве и солидарности, потому что «тот, кто не плачет, деградирует, внутренне дряхлеет, а тот, кто достигает более простой и сокровенной молитвы, состоящей из поклонения и умиления пред Богом, взрослеет. Он всё меньше привязан к себе и всё больше — ко Христу, и становится нищим духом. Так он становится ближе к бедным людям, возлюбленным Богом». [202] Из этого рождается подлинный дух возмещения, потому что «тот, в чьем сердце есть покаяние, всё больше чувствует себя братом всем грешникам в мире, братом, в котором нет превосходства или суровости осуждения, но всё больше желания любви и возмещения». [203] Подобная солидарность, порождаемая раскаянием, делает возможным примирение. Человек, способный на сокрушение, «вместо того, чтобы гневаться и возмущаться злом, совершенным его братьями, оплакивает их грехи. Он не скандалит. Происходит своего рода обращение, когда естественная склонность быть снисходительным к себе и непреклонным по отношению к другим меняется на противоположную, и по милости Божией человек становится строгим к себе и милосердным к другим». [204]
Возмещение: продолжение Сердца Христова
191. Есть еще один способ понимания возмещения, который позволяет нам поставить его в еще более прямую связь с Сердцем Христа, не исключая при этом конкретных обязательств по отношению к нашим братьям и сестрам, о которых мы говорили.
192. Как я написал по другому поводу, «Бог, некоторым образом, захотел ограничить Себя Самого, создав мир, нуждающийся в развитии, где многое из того, что мы считаем злом, опасностью или источником страданий, на самом деле принадлежит к родовым болям, побуждающим нас сотрудничать с Творцом». [205] Благодаря сотрудничеству с нашей стороны сила и любовь Бога могут распространяться в нашей жизни и в мире, тогда как отвержение или безразличие могут помешать этому. Некоторые библейские фразы высказывают это метафорически, например, когда Господь говорит: «Если хочешь обратиться, Израиль, ко Мне обратись» (Иер 4, 1). Или когда Он говорит, столкнувшись с отвержением Своего народа: «Повернулось во Мне сердце Мое, возгорелась вся жалость Моя!» (Ос 11, 8).
193. Хотя невозможно говорить о новых страданиях прославленного Христа, тем не менее Пасхальная тайна Христа «не может остаться только в прошлом, ибо Смертью Своею Он уничтожил смерть, и все, что Он есть, и все, что Он сделал и выстрадал ради всех людей, участвует в божественной вечности и покрывает собою все времена и эпохи, в них присутствуя». [206] Можно сказать, что Он сам пожелал ограничить славу Своего воскресения и сдержать излияние Своей великой и горячей любви, чтобы оставить место для нашего свободного сотрудничества с Его Сердцем. Отвергая Его любовь, мы ставим заслон для принятия этого благодатного дара, и наоборот, доверие и принятие с нашей стороны открывают пространство, канал для того, чтобы Его любовь изливалась в наши сердца. Наш отказ или наше безразличие ограничивают действие Его силы и плодотворность Его любви в нас. Если Он не встречает во мне доверия и открытости, то Его любовь лишается возможности — потому что Он сам так пожелал — уникального и неповторимого присутствия в моей жизни, и в мире, в котором Он призывает меня сделать ее присутствующей. Это происходит не от слабости, а от Его бесконечной свободы, от Его парадоксальной силы и от совершенства Его любви к каждому из нас. Когда всемогущество Бога проявляется в слабости нашей свободы, «одной только верой можно узреть это». [207]
194. В самом деле, святая Маргарита Мария рассказывает, что в одном из явлений Христос говорил ей о страстной любви к нам Его Сердца, которое «не в силах уже вместить в себя пламя своей горячей Любви, но желает распространять ее». [208] Поскольку Господь, который может всё, в Своей божественной свободе пожелал нуждаться в нас, возмещение подразумевает устранение препятствий, которые мы сами ставим на пути распространения Христовой любви в мире своим недостатком доверия, благодарности и преданности.
Жертва Любви
195. Чтобы лучше размышлять об этой тайне, на помощь нам вновь приходит просветленная духовность святой Терезы Младенца Иисуса. Она знала, что среди некоторых людей, с благими намерениями желающих жертвовать собой ради других, распространилась крайняя форма возмещения, которая состоит в том, чтобы предлагать себя в качестве своего рода «громоотвода» божественной справедливости: «Я думала о душах, которые приносят себя в жертву Справедливости Божией, чтобы отвратить её от других, и навлечь на себя кары, предназначенные для виновных». [209] Но, какой бы замечательной ни казалась другим эта идея, ее она не слишком убеждала: «Такая жертва казалась мне великой и щедрой, но я не чувствовала себя способной на нее». [210] Подобная настойчивость по отношению к божественной справедливости в итоге могла привести к убеждению, будто жертва Христа была несовершенной или действенной лишь отчасти, или что Его милосердие было недостаточно велико.
196. Благодаря своей духовной интуиции святая Тереза обнаружила, что есть и другой способ предложить себя Богу, для чего не нужно удовлетворять божественную справедливость, но лишь позволить бесконечной любви Господа распространяться без препятствий: «О мой Боже! Боже мой! Сохранится ли в Твоем Сердце всеми презираемая любовь? Мне кажется, что, если б Ты нашел души, готовые принести себя в жертву всесожжения Твоей Любви, Ты быстро бы потребил их. Мне кажется, Ты был бы счастлив не подавлять те волны бесконечной нежности, что заключены в Тебе». [211]
197. Неповторимая искупительная жертва Христа не нуждается в том, чтобы что-то к ней добавлять. Однако верно и то, что отказ со стороны нашей свободы не позволяет Сердцу Христову распространять «волны бесконечной нежности» в этом мире. И это так, потому что Сам Господь желает уважать такую возможность. Именно это, больше, нежели божественная справедливость, тревожит сердце святой Терезы Младенца Иисуса, поскольку для нее справедливость может быть понята только в свете любви. Мы видели, что она созерцала все божественные совершенства в свете милосердия, и благодаря этому видела их преображенными, сияющими любовью. Она говорила: «Даже Справедливость (а может быть, даже именно она больше, чем любая другая [добродетель]) кажется мне облеченной в любовь». [212]
198. Таким образом, ее акт приношения себя Богу родился не из божественной справедливости, а из Его милосердной Любви: «Я предаю себя как жертву всесожжения Твоей милосердной Любви и умоляю Тебя беспрестанно поглощать меня, переполняя мою душу волнами бесконечной нежности, заключенными в Тебе, чтобы я сделалась мученицей Твоей Любви, о мой Боже!» [213] Важно отметить, что речь идет не только о том, чтобы позволить Сердцу Христа распространять красоту Его любви в наших сердцах посредством полного доверия, но и о том, чтобы через мою жизнь Он достигал других и преображал мир: «В сердце Церкви, моей Матери, я буду любовью! […] И мечта моя осуществится». [214] Эти два аспекта неразрывно связаны.
199. Господь принял ее приношение. Мы видим, что некоторое время спустя она ощутила сильнейшую любовь к другим, и была уверена, что та исходит из Сердца Христа, нашедшего в ней свое продолжение. При этом она говорила своей сестре Леонии: «Я люблю тебя в тысячу раз нежнее, чем обычные сестры любят друг друга, потому что я могу любить тебя Сердцем нашей небесной невесты». [215] И через некоторое время она сказала Морису Бельеру: «Как бы мне хотелось, чтобы вы познали нежность Сердца Иисуса, чего оно от вас ожидает!» [216]
Целостность и гармония
200. Сестры и братья, я предлагаю развивать эту форму возмещения, которая, в конечном счете, предложила бы Сердцу Христову новую возможность распространять пламя Его горячей и милосердной любви в этом мире. Если верно, что возмещение подразумевает желание воздать некую компенсацию за раны, нанесенные нетварной Любви любым способом, через пренебрежение или оскорбление, [217] то наиболее подходящим способом для этого будет, если наша любовь предложит Господу возможность распространять Его любовь, в качестве компенсации за все те случаи, когда она была отвергнута или оскорблена. Это случится, если наше возмещение выйдет за рамки простого «утешения» Христа, о котором мы говорили в предыдущей главе, и выльется в дела братской любви, которыми мы исцеляем раны Церкви и мира. Таким образом мы предлагаем новые возможности для проявления исцеляющей силы Сердца Христа.
201. Жертвы и страдания, которых требуют подобные дела любви к ближнему, соединяют нас со страстями Христовыми, и, страдая со Христом в «том мистическом распятии, о котором глаголет Апостол, мы получим тем более изобильные плоды сего примирения и умилостивления для нас и для других». [218] Только Христос спасает нас Своей крестной жертвой, только Он искупает нас, потому что «един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1 Тим 2, 5–6). Возмещение, которое мы предлагаем, — это добровольное участие в Его искупительной любви и уникальной жертве. Таким образом мы восполняем «недостаток в плоти [нашей] скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь» (Кол 1, 24), и Сам Христос продлевает через нас действие Своей совершенной жертвы, принесенной из любви.
202. Часто наши страдания связаны с нашим уязвленным эго, но именно смирение Сердца Христова указывает нам путь к добровольному умалению. Бог пожелал прийти к нам, уничижив Себя, умалив Себя. Уже Ветхий Завет учит посредством различных метафор тому, как Бог входит в сердце истории и позволяет Своему народу отвергнуть Себя. Его любовь соединяется с повседневной жизнью возлюбленных Им людей и умоляет об ответной любви, как бы испрашивая разрешения явить Свою славу. С другой стороны, «всего единожды Господь Иисус высказался о собственном сердце. И Он выделил в нём одну эту черту: “кротость и смирение”. Как будто Он хотел сказать, что только так Он хочет покорить человека». [219] Когда Христос сказал: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф 11, 29), он указал нам на то, что «чтобы явить Себя, Ему нужна наша малость, наше смирение». [220]
203. В во всём сказанном важно отметить несколько важнейших аспектов. Прежде всего, любые дела любви к ближним, со всеми жертвами, самоотречением, страданиями и усилиями, с которыми они связаны, имеют смысл, лишь если они питаются милосердием Самого Христа. Это Он позволяет нам любить так, как Он возлюбил нас, и поэтому Он Сам любит и служит через нас. Он умаляется, смиряется, чтобы являть Свою любовь через наши дела, но, с другой стороны, в малейших наших делах милосердия Его Сердце проявляется и прославляется во всем Своем величии. Если человеческое сердце с полным доверием дает место любви Христовой и позволяет ее огню распространяться, такое сердце обретает способность любить других подобно Христу, умаляясь и приближаясь к каждому. Таким образом утоляется жажда Христа, и Его пламенная и милосердная любовь распространяется в нас и через нас. Как можно не увидеть прекрасную гармонию, присутствующую в этом!
204. Наконец, чтобы понять это благочестие во всем его богатстве, необходимо, учитывая то, что было сказано выше о его тринитарном измерении, добавить, что возмещение, совершенное Христом в Его человечестве, приносится в жертву Отцу через действие Святого Духа в каждом из нас. Поэтому и наше возмещение, приносимое Сердцу Христа, в конечном итоге обращено к Отцу, которому угодно видеть нас соединенными со Христом, когда мы приносим себя через Него, с Ним и в Нем.
Зажечь любовь в сердцах словами
205. Христианское предложение привлекательно, когда оно переживается и выражается во всей его полноте, а не просто как прибежище для религиозных чувств или помпезных обрядов. Что это было бы за поклонение Христу, если бы мы довольствовались только личными отношениями с Ним, и не стремились искренне облегчить страдания других людей и помочь им жить лучше? Было бы это угодно Сердцу, так сильно нас возлюбившему, если бы мы огранились собственным религиозным опытом без того, чтобы он нашел выражение в братских и социальных отношениях? Будем честными и примем Слово Божие в его полноте. Но, с другой стороны, по этой же самой причине социальное действие, лишенное религиозного измерения, в итоге означало бы приуменьшение того, что Бог хочет дать человеку. Вот почему, завершая эту главу, мы обязаны вспомнить о миссионерском измерении нашей любви к Сердцу Христову.
206. Св. Иоанн Павел II, помимо социального измерения поклонения Сердцу Христа, говорил также о «возмещении, которое есть апостольское сотрудничество ради спасения мира». [221] Посвящение Сердцу Христа «следует сравнивать с миссионерской деятельностью самой Церкви, поскольку оно отвечает желанию Сердца Иисуса распространяться в мире через членов Его Тела, через их полное посвящение себя Царству Божиему». [222] Таким образом, через христиан «любовь будет изливаться в сердца людей, чтобы созидалось Тело Христово, которое есть Церковь, и созидалось общество справедливости, мира и братства». [223]
207. Пламя любви Сердца Христова распространяется также благодаря миссионерской деятельности Церкви, возвещающей любовь Божию, явленную во Христе. Святой Викентий де Поль прекрасно выразил это, когда предлагал своим ученикам просить Господа о «таком сердце, которое побуждает нас идти повсюду, это сердце Сына Божия, сердце нашего Господа, […] которое призывает нас идти, как Он шел […] и посылает нас, подобно апостолам, нести огонь всюду». [224]
208. Святой Павел VI, обращаясь к монашеским Конгрегациям, распространяющим поклонение Святейшему Сердцу, напомнил: «Нет сомнения, что пастырское усердие и миссионерское рвение будут пылать ярко, если священники и верные, ради распространения славы Божией, будут созерцать пример вечной любви, которую показал нам Христос, и приложат свои усилия к тому, чтобы все люди приобщились к непостижимому богатству Христову». [225] В свете Святейшего Сердца миссия становится вопросом любви, и самый большой риск в этой миссии заключается в том, что можно сказать и сделать очень многое, но при этом так и не помочь случиться радостной встрече с любовью Христа, обнимающего и спасающего нас.
209. Для миссии, понимаемой в перспективе «излучения» любви Сердца Христова, нужны влюбленные миссионеры, которые, покорившись Христу, не могут не делиться Его любовью, изменившей их жизнь. Поэтому им больно тратить время на обсуждение второстепенных вопросов или навязывание истин и правил, потому что главная их забота — передать то, что они сами переживают, и, прежде всего, чтобы другие смогли воспринять доброту и красоту Возлюбленного, несмотря на всё несовершенство их усилий. Разве не происходит то же самое с каждым влюбленным? Стоит взять за пример слова, которыми влюбленный Данте Алигьери пытался выразить эту логику:
«Когда о донне мыслю я в волненьи,
Амур так сладостно владеет мною;
Не будь я полон робостью такою,
Я б мог любовь зажечь в сердцах словами». [226]
210. Говорить о Христе свидетельством или словом так, чтобы другим захотелось полюбить Его, — вот величайшее желание каждого миссионера. В этой динамике любви нет прозелитизма: слова любящего не пугают, не навязывают, не принуждают, они лишь заставляют других задаться вопросом: как возможна такая любовь? С величайшим уважением к свободе и достоинству другого влюбленный всего лишь надеется, что ему позволят говорить о той дружбе, которая наполняет его жизнь такой радостью.
211. Христос просит вас о том, чтобы, не пренебрегая благоразумием и уважением, вы не стыдились признаваться в своей дружбе с Ним. Он просит вас иметь мужество сказать другим, что вам хорошо от того, что вы встретили Его: «Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным» (Мф 10, 32). Но для влюбленного сердца это не обязанность, а необходимость, которую трудно сдерживать: «Горе мне, если не благовествую!» (1 Кор 9, 16). «Было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог» (Иер 20, 9).
В общении служения
212. Эта миссия свидетельствовать другим о Христе не является чем-то между мной и Им. Она осуществляется в сотрудничестве со своей общиной и с Церковью. Отдаляясь от общины, мы отдаляемся от Иисуса. Когда мы забываем об общении и пренебрегаем им, наша дружба с Иисусом охладевает. Об этой тайне никогда нельзя забывать. Любовь к братьям и сестрам в своей общине — монашеской, приходской, епархиальной — подобна топливу, питающему нашу дружбу с Иисусом. Дела любви по отношению к братьям в общине могут быть лучшим, а иногда и единственно возможным способом свидетельствовать о любви Иисуса Христа. Сам Господь сказал: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин 13, 35).
213. Так любовь становится общественным служением. Я никогда не устаю напоминать, что Иисус сказал предельно ясно: «Все, что вы сделали одному из сих братьев Моих меньших, вы сделали Мне» (Мф 25, 40). Он приглашает вас встречать Его в каждом брате и сестре, особенно в самых бедных, презираемых и отверженных обществом. Это поистине прекрасная встреча!
214. Если мы посвящаем себя помощи другим людям, это не значит, что мы забываем об Иисусе. Наоборот, мы находим Его иным образом. И когда мы пытаемся кого-то поддержать и исцелить, Иисус рядом с нами. Полезно помнить, что, послав Своих учеников на миссию, Он Сам действовал вместе с ними (ср. Мк 16, 20). Он здесь, Он трудится, борется и творит добро вместе с нами. Таинственным образом Его любовь являет себя через наше служение, и это Он Сам говорит с миром на том языке, которому часто не нужны слова.
215. Он призывает вас и посылает вас распространять добро. Это призвание всегда связано со служением: делать добро, как врач, как мать, как учитель, как священник. Где бы вы ни были, вы можете почувствовать, что Он призывает вас и посылает вас исполнять Его миссию на земле. Он Сам говорит нам: «Я посылаю вас» (Лк 10, 3). Это часть дружбы с Ним. Поэтому, чтобы эта дружба возрастала, нужно дать Ему возможность послать вас исполнять Его миссию в этом мире, с доверием, щедростью, свободой, и без страха. Если же вы замкнетесь в себе, потому что так удобнее, это не принесет вам покоя, ведь всегда будут появляться новые страхи, печали, тревоги. Кто не исполняет свою миссию на этой земле, тот не может быть счастлив, тот будет разочарован. Поэтому позвольте Ему послать вас, позвольте Ему вести вас туда, куда Он хочет. Не забывайте, что Он всегда рядом. Он не бросает вас в пропасть и не оставляет вас одних. Он поддерживает и сопровождает вас. Он обещал и исполняет обещание: «Я всегда с вами» (Мф 28, 20).
216. В каком-то смысле все верующие должны быть миссионерами, подобно апостолам Иисуса и первым ученикам, которые шли возвещать любовь Божию, шли рассказывать о том, что Христос жив и что стóит встретиться с Ним. Святая Тереза Младенца Иисуса воспринимала это как важнейший элемент той жертвы, которую она приносила милосердной Любви: «Я желала напоить Возлюбленного моего, и сама почувствовала себя снедаемой жаждой душ». [227] Это также и ваша миссия. Каждый делает это по-своему, и вы поймете, как именно вы сможете быть миссионером. Иисус заслуживает этого. Если у вас хватит смелости довериться Ему, Он просветит вас. Он будет сопровождать вас и укреплять вас, и вы обретете драгоценный опыт, который принесет вам много пользы. Неважно, удастся ли вам увидеть результаты, предоставьте это Господу, действующему в тайне сердец, но не уставайте радоваться каждой возможности передать другим любовь Христову.
Заключение
217. Этот документ помогает увидеть, что написанное в двух социальных энцикликах — Laudato si’ и Fratelli tutti — не есть нечто чуждое нашей встрече с любовью Иисуса Христа. Наслаждаясь этой любовью, мы обретаем способность созидать узы, объединяющие братьев, вместе признавать достоинство каждого человека и заботиться о нашем общем доме.
218. Сегодня, когда всё продается и покупается, иногда кажется, будто само человеческое достоинство зависит от вещей, добытых силой денег. Нас постоянно склоняют к тому, чтобы приобретать, потреблять и развлекаться, чтобы мы оставались заложниками деградирующей системы, не позволяющей нам выйти за рамки наших сиюминутных мелких потребностей. Любовь Христа неподвластна этому извращенному механизму, и только Он один может освободить нас от этой одержимости, в которой нет места безусловной любви. Он способен даровать сердце этой земле и вновь оживить любовь там, где, как мы думаем, сама способность любить умерла навсегда.
219. Церковь также нуждается в любви, и в том, чтобы не подменять любовь Христову устаревшими структурами и заботами, одержимостью прошлым, восхищением перед собственными идеями, и любого рода фанатизмом, которые в конечном итоге тщатся подменить собой безвозмездную любовь Бога, который дарует свободу, животворит, радует сердце и питает общины. Из раны в боку Христа продолжает течь река, которая никогда не иссякнет, никогда не истощится, и всегда вновь предлагает себя тем, кто желает любить. Только Его любовь может сотворить новое человечество.
220. Молю Господа Иисуса, чтобы из Его святого Сердца излились реки живой воды для всех нас, чтобы исцелить раны, которые мы причиняем себе, чтобы укрепить нашу способность любить и служить, чтобы побудить нас учиться вместе идти к справедливому миру солидарности и братства. До того дня, когда мы вместе в радости будем праздновать пир в Царстве Небесном, перед лицом воскресшего Христа, который примиряет все наши различия Своим светом, струящимся из Его открытого Сердца. Да будет Он благословен во веки!
Франциск
Дано в Риме, в соборе Св. Петра, 24 октября 2024 года, моего Понтификата — двенадцатого.
[1] Значительная часть размышлений в первой главе вдохновлена сочинениями о. Диего Фареса, SJ. Да упокоит его Господь в Своем Царстве.
[2] Ср. Гомер, Илиада, 21, 441.
[3] Ср. Там же, 10, 244.
[4] Ср. Платон, Тимей, 65 c-d; 70.
[5] Проповедь на утренней Мессе в Доме святой Марфы, 14 октября 2016 г.: L’Osservatore Romano, 15 октября 2016 г., стр. 8.
[6] Св. Иоанн Павел II, Ангелус, 2 июля 2000 г.: L’Osservatore Romano, 3–4 июля 2000 г., стр. 4.
[7] Он же, Катехеза, 8 июня 1994 г.: L’Osservatore Romano, 9 июня 1994 г., стр. 5.
[8] Бесы (1873).
[9] Romano Guardini, Religiöse Gestalten in Dostojewskijs Werk, Mainz/Paderborn 1989, стр. 236. [Цит. по Романо Гуардини, Человек и вера, Брюссель 1994, 233-234]
[10] Karl Rahner, Einige Thesen zur Theologie der Herz-Jesu-Verehrung: Schriften zur Theologie, Bd. 3, Einsiedeln 1956, стр. 392.
[11] Там же, 61.
[12] Byung-Chul Han, Heideggers Herz. Zum Begriff der Stimmung bei Martin Heidegger, München 1996, стр. 39.
[13] Там же, стр. 60.
[14] Ср. Он же, Agonie des Eros, Berlin, 2012. [Бён-Чхоль Хан, Агония эроса. Любовь и желание в нарциссическом обществе, Москва 2023]
[15] Ср. Martin Heidegger, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, Frankfurt a. M., 1981, стр. 120. [М. Хайдеггер, Разъяснения к поэзии Гельдерлина, Санкт-Петербург, 2003, стр. 251]
[16] Ср. Michel de Certeau, L’espace du désir ou le «fondement» des Exercises Spirituels: Christus 77 (1973), стр. 118–128.
[17] Itinerarium mentis in Deum, VII, 6.
[18] Он же, Proemium in I Sent., q. 3.
[19] St. John Henry Newman, Meditations and Devotions, London, 1912, Part III [XVI], par. 3, стр. 573-574.
[20] Второй Ватиканский Собор, Пастырская конституция Gaudium et spes, 82.
[21] Там же, 10.
[22] Там же, 14.
[23] Дикастерия вероучения, Декларация Dignitas infinita (2 апреля 2024 г.), 8. Ср. L’Osservatore Romano, 8 апреля 2024 г.
[24] Пастырская конституция Gaudium et spes, 26.
[25] Св. Иоанн Павел II, Ангелус, 28 июня 1998 г.: L’Osservatore Romano, 30 июня – 1 июля 1998 г., стр. 7.
[26] Энциклика Laudato si’ (24 мая 2015 г.), 83: AAS (2015), 880.
[27] Проповедь на утренней Мессе в Доме святой Марфы, 7 июня 2013 г.: L’Osservatore Romano, 8 июня 2013 г., стр. 8.
[28] Пий XII, Энциклика Haurietis Aquas (15 мая 1956 г.), I: AAS 48 (1956), 316.
[29] Пий VI, Конституция Auctorem fidei (28 августа 1794 г.), 63: DH, 2663.
[30] Лев XIII, Энциклика Annum Sacrum (25 мая 1899 г.): ASS 31 (1898–99), 649.
[31] Там же: «Inest in Sacro Corde symbolum atque expressa imago infinitae Iesu Christi caritatis».
[32] Ангелус, 9 июня 2013 г.: L’Osservatore Romano, 10-11 июня 2013 г., стр. 8.
[33] Из этого понятно, почему Церковь запретила размещать на алтаре изображения сердец Иисуса или Марии самих по себе (ср. Ответ Конгрегации богослужения о. Шарлю Лекоку, P.S.S., 5 апреля 1879 г.: Decreta authentica Congregationis Sacrorum Rituum ex actis ejusdem collecta, Том III, 107-108, n. 3492). Вне рамок литургии, «для личного поклонения» (там же), разрешается использовать символы сердца как назидательное изображение, эстетический образ или эмблему, приглашающие к размышлению о любви Христа; однако есть риск, что сердце само по себе может восприниматься как объект поклонения или духовного диалога в отрыве от личности Христа. 31 марта 1887 г. та же Конгрегация опубликовала сходный ответ (Она же, 187, n. 3673).
[34] Тридентский Собор, Сессия XXV, Декрет Mandat Sancta Synodus (3 декабря 1563 г.): DH, 1823.
[35] V Генеральная конференция епископата Латинской Америки и Карибского бассейна, Апаресидский документ (29 июнь 2007 г.), n. 259.
[36] Энциклика Haurietis Aquas (15 мая 1956 г.), I: AAS 48 (1956), 323-324.
[37] Ep. 261, 3: PG 32, 972.
[38] In Io. homil. 63, 2: PG 59, 350.
[39] De fide ad Gratianum, II, 7, 56: PL 16, 594.
[40] Enarr. in Ps. 87, 3: PL 37, 1111.
[41] Ср. De fide orth. 3, 6.20: PG 94, 1006.1081.
[42] Olegario González de Cardedal, La entraña del cristianismo, Salamanca 2010, 70-71.
[43] Ангелус, 1 июня 2008 г.: L’Osservatore Romano, 2-3 июня 2008 г., стр. 1.
[44] Пий XII, Энциклика Haurietis Aquas (15 мая 1956), II: AAS 48 (1956), 327-328.
[45] Там же, 28.
[46] Бенедикт XVI, Ангелус, 1 июня 2008 г.: L’Osservatore Romano, 2-3 июня 2008 г., стр. 1.
[47] Вигилий, Конституция Inter innumeras sollicitudines (14 мая 553 г.): DH 420.
[48] Эфесский Собор, Анафемы Кирилла Александрийского, 8: DH 259.
[49] II Константинопольский Собор, Сессия VIII (2 июня 553 г.), Кан. 9: DH 431.
[50] Св. Иоанн Креста, Духовная песнь A, Строфа 22, 4.
[51] Там же, Строфа 12, 8.
[52] Там же, Строфа 12,1.
[53] «У нас один Бог Отец, из Которого всё, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым всё, и мы Им» (1 Кор 8, 6). «Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь» (Фил 4, 20). «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения» (2 Кор 1, 3).
[54] Апостольское послание Tertio millennio adveniente (10 ноября 1994 г.), 49: AAS 87 (1995), 35.
[55] Ad Rom., 7: PG 5, 694.
[56] «Чтобы мир знал, что Я люблю Отца» (Ин 14, 31). «Я и Отец — одно» (Ин 10, 30). «Я в Отце и Отец во Мне» (Ин 14, 10).
[57] «Иду к Отцу» (pros ton Patéra: Ин 16, 28). «Я к Тебе иду» (pros se: Ин 17, 11).
[58] «Eis ton kolpon tou Patrós».
[59] Adv. Haer., III, 18, 1: PG 7, 932.
[60] In Joh. II, 2: PG 14, 110.
[61] Ангелус, 23 июня 2002 г.: L’Osservatore Romano, 24-25 июня 2002 г., стр. 1.
[62] Св. Иоанн Павел II, Обращение по случаю столетия посвящения человечества Божественному Сердцу Иисуса, Варшава, 11 июня 1999 г.: L’Osservatore Romano, 12 июня 1999, стр. 5.
[63] Он же, Ангелус, 8 июня 1986 г., 4: L’Osservatore Romano, 9–10 июня 1986 г., стр. 5.
[64] Проповедь, Посещение Больницы Джемелли и Медицинского факультета Католического университета Святейшего Сердца, 27 июня 2014 г.: L’Osservatore Romano, 29 июня 2014 г., стр. 7.
[65] Еф 1, 5.7; 2, 18; 3, 12.
[66] Еф 2, 5.6; 4, 15.
[67] Еф 1, 3.4.6.7.11.13.15; 2, 10.13.21.22; 3, 6.11.21.
[68] Обращение по случаю столетия посвящения человечества Божественному Сердцу Иисуса, Варшава, 11 июня 1999 г.: L’Osservatore Romano, 12 июня 1999 г., стр. 5.
[69] «Поскольку в Святейшем Сердце заключен символ и явный образ бесконечной любви Иисуса Христа, побуждающей нас любить друг друга, то самое уместное для нас — это посвятить себя Его августейшему Сердцу. Каковой акт есть не что иное, как приношение себя Иисусу Христу и единение с Ним, ибо любая честь, почитание и любовь, воздаваемые этому божественному Сердцу, в действительности истинно воздаются самому Христу… И ныне иной благословенный и небесный знак предлагается нашему взору — Святейшее Сердце Иисуса, увенчанное крестом, сияющим ослепительным великолепием среди пламени любви. На него надлежит нам возложить все наши надежды, и от него следует людям с уверенностью ожидать спасения» (Энциклика Annum Sacrum [25 мая 1899 г.]: ASS 31 [1898-99], 649; 651).
[70] «Ибо где, как не в этом счастливом знаке и не в связанной с ним форме благочестия — синтез всей религии, и сверх того — образец более совершенной жизни, поскольку он скорее ведет души к глубокому и близкому познанию Христа Господа, и действенней подвигает сердца любить Его горячее и точнее подражать Ему?» (Энциклика Miserentissimus Redemptor [8 мая1928 г.]: AAS 20 (1928), 167.
[71] «Это превосходнейший акт добродетели религии, то есть акт с нашей стороны абсолютного и безоговорочного подчинения и посвящения любви Божественного Искупителя, наиболее выразительным изображением и символом которого является Его пронзенное Сердце. […]; мы можем восхищаться не только символом, но и, так сказать, синтезом всей тайны нашего искупления […]. Иисус Христос ясно и многократно указывал на Свое Сердце как на символ, наиболее подходящий для того, чтобы побуждать людей к познанию и почитанию Его любви; и в то же время оно представляет собой знак и светоч милосердия и благодати для духовных нужд Церкви нашего времени» (Энциклика Haurietis Aquas [15 мая 1956 г.], Пролог; III; IV: AAS 48 (1956), 311; 336; 340).
[72] Катехеза, 8 июня 1994 г., 2: L’Osservatore Romano, 9 июня 1994 г., стр. 5.
[73] Ангелус, 1 июня 2008 г.: L’Osservatore Romano, 2-3 июня 2008 г., стр. 1.
[74] Энциклика Haurietis Aquas (15 мая 1956), IV: AAS 48 (1956), 344.
[75] Ср. Там же: AAS 48 (1956), 336.
[76] «Ценность частных откровений совершенно отлична от единственного окончательного публичного Откровения: ведь оно требует от нас веры […]. Частное откровение — предложенная помощь, однако воспользоваться ею не обязательно» (Бенедикт XVI, Апостольское обращение Verbum Domini [30 сентября 2010 г.], 14: AAS 102 [2010], 696).
[77] Энциклика Haurietis Aquas (15 мая 1956), IV: AAS 48 (1956), 340.
[78] Там же: AAS 48 (1956), 344.
[79] Там же.
[80] Апостольское обращение C’est la confiance (15 октября 2023 г.), 20: L’Osservatore Romano, 16 октября 2023 г.
[81] Св. Тереза Младенца Иисуса, Ms A, 83vº.
[82] Святая Мария Фаустина Ковальская, Дневник. Милосердие Божие в моей душе (1-я тетрадь, 22 февраля 1931 г.), Варшава 2002, стр. 74.
[83] Ср. Мишна Сукка, IV, 5. 9.
[84] Письмо Генеральному настоятелю Общества Иисуса, Паре-ле-Моньяль (Франция), 5 октября 1986 г.: L’Osservatore Romano, 7 октября 1986 г., стр. IX.
[85] Деяния лугдунских мучеников, в Евсевий Кесарийский, Церковная история, V, 1, 22: PG 20, 418.
[86] Руфин, V, 1, 22: GCS, Евсевий II, 1, стр. 411, 13.
[87] Св. Иустин, Dial. 135, 3: PG 6, 787
[88] Новациан, De Trinitate, 29: PL 3, 994; Ср. Св. Григорий Эльвирский, Tractatus Origenis de libris Ss. Scripturarum, XX, 12: CSSL 69, 144.
[89] Expl. Ps. 1:33: PL 14, 983–984.
[90] Ср. Tract. in Ioannem 61, 6: PL 35, 1801.
[91] Ep. ad Rufinum, 3, 4.3: PL 22, 334.
[92] Sermones in Cant. 61, 4: PL 183, 1072.
[93] Expositio altera super Cantica Canticorum, c. 1: PL 180, 487.
[94] Гийом де Сен-Тьерри, De natura et dignitate amoris, 1: PL 184, 379.
[95] Он же, Meditativae Orationes 8, 6: PL 180, 230.
[96] Св. Бонавентура, Древо жизни, 30.
[97] Там же, 47.
[98] Legatus divinae pietatis, IV, 4, 4: SCh, 255, 66.
[99] Leone Dehon, Directoire spirituel des prêtres du Sacré Cœur de Jésus, Turnhout 1936, II, cap. VII, n. 141.
[100] Св. Екатерина Сиенская, Диалоги о божественном Провидении, LXXV.
[101] Ср. Angelus Walz, De veneratione divini cordis Iesu in Ordine Praedicatorum, Roma 1937.
[102] Rafael García Herreros, Vida de San Juan Eudes, Bogotá 1943, 42.
[103] Письмо св. Иоанне Франциске де Шанталь, 24 апреля 1610 г.
[104] Проповедь на II Воскресенье Четыредесятницы, 20 февраля 1622 г.
[105] Письмо св. Иоанне Франциске де Шанталь на Торжество Вознесения 1612 г.
[106] Письмо Марии де Блоне, 18 февраля 1618 г.
[107] Письмо св. Иоанне Франциске де Шанталь, конец ноября 1609 г.
[108] Письмо св. Иоанне Франциске де Шанталь, ок. 25 февраля 1610 г.
[109] Entretien XIV, О простоте и благоразумии.
[110] Письмо св. Иоанне Франциске де Шанталь, 10 июня 1611 г.
[111] Св. Маргарита Мария Алакок, Автобиография, n. 53.
[112] Там же.
[113] Там же, 134.
[114] Ср. Дикастерия вероучения, Нормы для процедуры распознания предполагаемых сверхъестественных феноменов, 17 мая 2024 г., I, A, 12.
[115] Св. Маргарита Мария Алакок, Автобиография, n. 92.
[116] Она же, Письмо сестре де ла Барж, 22 октября 1689 г.
[117] Она же, Автобиография, n. 53.
[118] Там же, n. 55.
[119] Св. Клавдий де ла Коломбьер, Проповедь о доверии к Богу, в Œuvres du R.P de La Colombière, t. 5, Perisse, Lyon, 1854, p. 100.
[120] Он же, Духовные упражнения в Лионе, 1–8 февраля 1677 г.
[121] Он же, Духовные упражнения в Лионе, октябрь-ноябрь 1674 г.
[122] Ср. Св. Шарль де Фуко, Письмо госпоже де Бонди, 27 апреля 1897 г.
[123] Он же, Письмо госпоже де Бонди, 28 апреля 1891 г.; Ср. Письмо госпоже Де Бонди, 5 апреля 1909 г.: « Благодаря Вам я узнал об адорации и благословении Пресвятыми Дарами, и о Святом Сердце!»
[124] Письмо госпоже де Бонди, 7 апреля 1890 г.
[125] Письмо отцу Ювелену, 27 июня 1892 г.
[126] Св. Шарль де Фуко, Размышления над Ветхим Заветом (1896-1897), XXX, 1-21.
[127] Письмо отцу Ювелену, 16 мая 1900 г.
[128] Дневник, 17 мая 1906 г.
[129] Св. Тереза Младенца Иисуса, Письмо 67 госпоже Герен, 18 ноября 1888 г.
[130] Письмо 122 Селине, 14 октября 1890 г.
[131] Поэма 23, «Святому Сердцу Иисуса», июнь-октябрь 1895 г.
[132] Письмо 247 отцу Морису Белльеру, 21 июня 1897 г.
[133] Последние беседы. Желтая тетрадь, 11 июля 1897 г.
[134] Письмо 197 сестре Марии Святейшего Сердца, 17 сентября 1896 г. Это не значит, что Маленькая Тереза не отдавала Богу жертвы, боль и страдания как способ приобщиться к страданиям Христа. Однако, когда она хотела дойти до сути, то была осторожна, и не придавала этим жертвам того значения, которым они не обладают.
[135] Письмо 142 Селине, 6 июля 1893 г.
[136] Письмо 191 Леонии, 12 июля 1896 г.
[137] Письмо 226 отцу Руллану, 9 мая 1897 г.
[138] Письмо 258 отцу Морису Белльеру, 18 июля 1897 г.
[139] Ср. Св. Игнатий Лойола, Духовные упражнения, n. 104.
[140] Там же, n. 297.
[141] Ср. Письмо Св. Игнатию, 23 января 1541 г.
[142] De Vita P. Ignatii et Societatis Iesu initiis, c. 8, 96.
[143] Св. Игнатий Лойола, Духовные упражнения, 54.
[144] Ср. Там же, 230.
[145] XXIII Генеральная конгрегация Общества Иисуса, Декрет 46, 1.
[146] «In Lui solo… la speranza», Milano 1983, 180-181.
[147] Послание Генеральному настоятелю Общества Иисуса (Паре-ле-Моньял, 5 октября 1986 г.): L’Osservatore Romano, 6 октября 1986 г., стр. 7.
[148] Конференция для священников-миссионеров (13 августа 1655 г.).
[149] Конференция для Дочерей милосердной любви (9 декабря 1657 г.).
[150] S. Daniele Comboni, Gli scritti, Bologna 1991, 998.
[151] Ср. Проповедь на Мессе канонизации, 18 мая 2003 г.: L’Osservatore Romano, 19–20 мая 2003 г., стр. 6.
[152] Св. Иоанн Павел II, Энциклика Dives in misericordia (30 ноября 1980 г.), 13: AAS 72 (1980), 1219.
[153] Он же, Катехеза, 20 июня 1979 г.: L’Osservatore Romano, 22 июня 1979, стр. 1.
[154] Миссионеры Комбонианцы Сердца Иисуса, Правила жизни, 3.
[155] Общество Святейшего Сердца, Конституции 1982 года, 7.
[156] Пий XI, Энциклика Miserentissimus Redemptor (8 мая 1928 г.): AAS 20 (1928), 174.
[157] Катехизис Католической Церкви, №. 1085: «Все, что [Христос] есть, и все, что Он сделал и выстрадал ради всех людей, участвует в божественной вечности и покрывает собою все времена и эпохи, в них присутствуя».
[158] Пий XI, Энциклика Miserentissimus Redemptor (8 мая 1928 г.): AAS 20 (1928), 174.
[159] Проповедь на Мессе освящения мира и благословения елеев, 28 марта 2024 г.: L’Osservatore Romano, 28 марта 2024 г., стр. 2.
[160] Св. Игнатий Лойола, Духовные упражнения, 160.
[161] Проповедь на Мессе освящения мира и благословения елеев, 28 марта 2024 г.: L’Osservatore Romano, 28 марта 2024 г., стр. 2.
[162] Св. Маргарита Мария Алакок, Автобиография, n. 55.
[163] Она же, Письмо 133, 10.
[164] Она же, Автобиография, n. 92.
[165] Лев XIII, Энциклика Annum Sacrum (25 мая 1899 г.): ASS 31 (1898-99), 649.
[166] IULIANUS IMP., Ep. XLIX ad Arsacium Pontificem Galatiae, Mainz, 1828, 90-91.
[167] Там же.
[168] Дикастерия вероучения, Декларация Dignitas infinita (2 апреля 2024 г.), 19: L’Osservatore Romano, 8 апреля 2024 г.
[169] Ср. Бенедикт XVI, Послание Генеральному настоятелю Общества Иисуса по случаю 50-й годовщины энциклики Haurietis Aquas (15 maggio 2006): AAS 98 (2006), 461.
[170] In Num. homil. 12, 1: PG 12, 657.
[171] Epist. 29, 24: PL 16, 1060.
[172] Adv. Arium 1, 8: PL 8, 1044.
[173] Tract. in Joannem 32, 4: PL 35, 1643.
[174] In Ev. S. Joannis, cap. VII, lectio 5.
[175] Пий XII, Энциклика Haurietis Aquas (15 мая 1956 г.), II: AAS 48 (1956), 321.
[176] Св. Иоанн Павел II, Энциклика Redemptoris Mater (25 марта 1987 г.), 38: AAS 79 (1987), 411.
[177] Второй Ватиканский собор, Догматическая конституция Lumen gentium, 62.
[178] Там же, 60.
[179] Sermones super Cant., XX, 4: PL 183, 869.
[180] О благочестивой жизни, Брюссель 1994, 141 (с приведением в соответствие с оригинальным текстом).
[181] Проповедь на XVII Воскресенье после Пятидесятницы.
[182] Écrits spirituels, Paris 1947, 67, 72.
[183] После 19 марта 1902 года все его письма начинались словами Jesus Caritas, разделенными знаком сердца, увенчанного крестом.
[184] Письмо отцу Ювелену, 15 июля 1904 г.
[185] Письмо отцу Мартену, 25 января 1903 г.
[186] Цит. по René Voillaume, Les fraternités du Père de Foucauld, Paris, 1946, 173.
[187] Méditations des saints Évangiles sur les passages relatifs à quinze vertus, 1897-1898, Charité (Mt 13, 3), 60.
[188] Там же, Charité (Mt 22, 1), 90.
[189] H. Huvelin, Quelques directeurs d’âmes au XVII siècle, Paris 1911, 97.
[190] Конференция для Дочерей милосердной любви, 85 (11 ноября 1657 г.).
[191] Уложения Конгрегации миссионеров, 17 мая 1658 г., с. 2, 6.
[192] Послание Генеральному настоятелю Общества Иисуса (Паре-ле-Моньял, 5 октября 1986 г.): L’Osservatore Romano, 6 октября 1986 г., стр. 7.
[193] Св. Иоанн Павел II, Апостольское увещание Reconciliatio et Paenitentia (2 декабря 1984 г.), 16: AAS 77 (1985), 215.
[194] Ср. Он же, Энциклика Sollicitudo rei socialis (30 декабря 1987 г.), 36: AAS 80 (1988), 561–562.
[195] Он же, Энциклика Centesimus annus (1 мая 1991 г.), 41: AAS 83 (1991), 844–845.
[196] Катехизис Католической Церкви, №. 1888.
[197] Ср. Катехеза, 8 июня 1994 г., 2: L’Osservatore Romano, 9 июня 1994 г., стр. 5.
[198] Обращение к участникам международного коллоквиума “Réparer l´irréparable”, в 350-ю годовщину явлений Иисуса в Паре-ле-Моньяле, 4 мая 2024 г.: L’Osservatore Romano, 4 мая 2024 г., стр. 12.
[199] Там же.
[200] Проповедь на утренней Мессе в Доме святой Марфы, 6 марта 2018 г.: L’Osservatore Romano, 5–6 марта 2018 г., стр. 8.
[201] Обращение к участникам международного коллоквиума “Réparer l´irréparable”, в 350-ю годовщину явлений Иисуса в Паре-ле-Моньяле, 4 мая 2024 г.: L’Osservatore Romano, 4 мая 2024 г., стр. 12.
[202] Проповедь на Мессе освящения мира и благословения елеев, 28 марта 2024 г.: L’Osservatore Romano, 28 marzo 2024 г., стр. 2.
[203] Там же.
[204] Там же.
[205] Энциклика Laudato si’ (24 мая 2015 г.), 80: AAS 107 (2015), 879.
[206] Катехизис Католической Церкви, №. 1085.
[207] Там же, №. 268.
[208] Автобиография, n. 53.
[209] Ms A, 84r°.
[210] Там же.
[211] Там же.
[212] Ms A, 83v°; ср. Письмо 226 отцу Адольфу Руллану, 9 мая 1897 г.
[213] Молитва посвящения себя милосердной любви Божией.
[214] Ms B, 3v°.
[215] Письмо 186 Леонии, 11 апреля 1896 г.
[216] Письмо 258 отцу Морису Белльеру, 18 июля 1897 г.
[217] Ср. Пий XI, Энциклика Miserentissimus Redemptor (8 мая 1928 г.): AAS 20 (1928), 169.
[218] Там же.
[219] Св. Иоанн Павел II, Катехеза, 20 июня 1979 г.: L’Osservatore Romano, 22 июня 1979 г., стр. 1.
[220] Проповедь на утренней Мессе в Доме святой Марфы, 27 июня 2014 г.: L’Osservatore Romano, 28 июня 2014 г., стр. 8.
[221] Послание по случаю столетия посвящения человечества божественному Сердцу Иисуса, Варшава, 11 июня 1999 г., Торжество Святейшего Сердца Иисуса: L’Osservatore Romano, 12 июня 1999 г., стр. 5.
[222] Там же.
[223] Послание Архиепископу Лиона по случаю паломничества в Паре-ле-Моньяль в сотую годовщину посвящения человечества божественному Сердцу Иисуса, 4 июня 1999 г.: L’Osservatore Romano, 12 июня 1999 г., стр. 4.
[224] Конференция для священников-миссионеров, 135 (22 августа 1655 г.).
[225] Послание Diserti interpretes (25 maggio 1965), 4: Enchiridion della Vita Consacrata, Bologna-Milano 2001, n. 3809.
[226] Vita Nova, XIX, 5–6 (русский перевод М.И. Ливеровской по изд.: Данте Алигьери, Новая жизнь, Москва: Издательство Юрайт, 2025.)
[227] Ms A, 45v°.
Источник: Официальный сайт ККЕР