
Верю!
О великом режиссере Станиславском написано множество томов. Его жизнь в театре известна вдоль и поперек. Но вот что Константин Сергеевич был практикующим христианином, причем не формальным, мало кто знает. Редактор раздела культуры журнала «Фома» Виталий Каплан беседует с искусствоведом и театроведом, ректором Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борисом Николаевичем Любимовым.
Как измерить воцерковленность?
 Константин Сергеевич родом из купеческой семьи. Наверняка он в детстве получил традиционное религиозное воспитание. Но был ли у него затем, в юности, какой-то кризис веры?
Константин Сергеевич родом из купеческой семьи. Наверняка он в детстве получил традиционное религиозное воспитание. Но был ли у него затем, в юности, какой-то кризис веры?
Это непростой вопрос. Дело в том, что когда мы говорим о событиях прошлого, то сразу упираемся в то, что в исторической науке называется источниковедением. В самом деле, ну вот откуда мы можем узнать, был ли у Станиславского религиозный кризис? Прежде всего, из его воспоминаний, писем, дневников. Воспоминания свои Константин Сергеевич писал в 20-х годах, когда совершенно не стоило касаться ни кризиса веры, ни даже ее наличия. Опасные были темы.
Что касается дореволюционных времен, то, разумеется, не только Станиславский, но и практически никто из русских актеров (да и вообще образованных людей того времени) не вел дневников, где фиксировал бы даты посещения храмов, исповеди, причастия. Это просто было не принято. В наше время ситуация иная — верующие актеры любят публично рассказывать о своей вере, даже хвастаются, у кого духовник круче. Не то было в XIX веке. Вряд ли, к примеру, биографы Достоевского и Гончарова смогли бы определить, кто из них чаще причащался. Кроме того, сама эта тема стала интересной только в последние 20 лет, а до того биографы Станиславского, работая с архивными документами, даже и не копали в эту сторону. Возможно, когда-нибудь такая работа и будет проделана, но технически это очень сложно: слишком мало следов.
Тем не менее, кое о чем мы все-таки сказать можем. Вот, например, что говорится о деде Станиславского, Владимире Семеновиче Алексееве (который, правда, умер за год до его рождения): «Был добр, любил пошутить и посмеяться, был скуп, аккуратен в делах, религиозен». Это цитата из работы «Сведения о купеческом роде Алексеевых». То есть можно предположить, что атмосфера в семье была отнюдь не атеистической.
А вот что пишет сам Станиславский о своих предках в подготовительных материалах к книге «Моя жизнь в искусстве»: «они представляли собой странные, необъяснимые, непонятные для культурного мира человеческие существа с карамазовскими элементами Бога и черта в душе, которые ведут между собою непрестанную междоусобную войну».
Еще характерный момент — лето 1878 года, Станиславскому 15 лет, семья приехала в Харьков. И первым делом — «пошли осматривать город: сначала в собор, потом в монастырь». Для человека, который интересуется историей театра, это несущественные подробности, но тому, кого интересует личность Станиславского, они много что могут сказать.
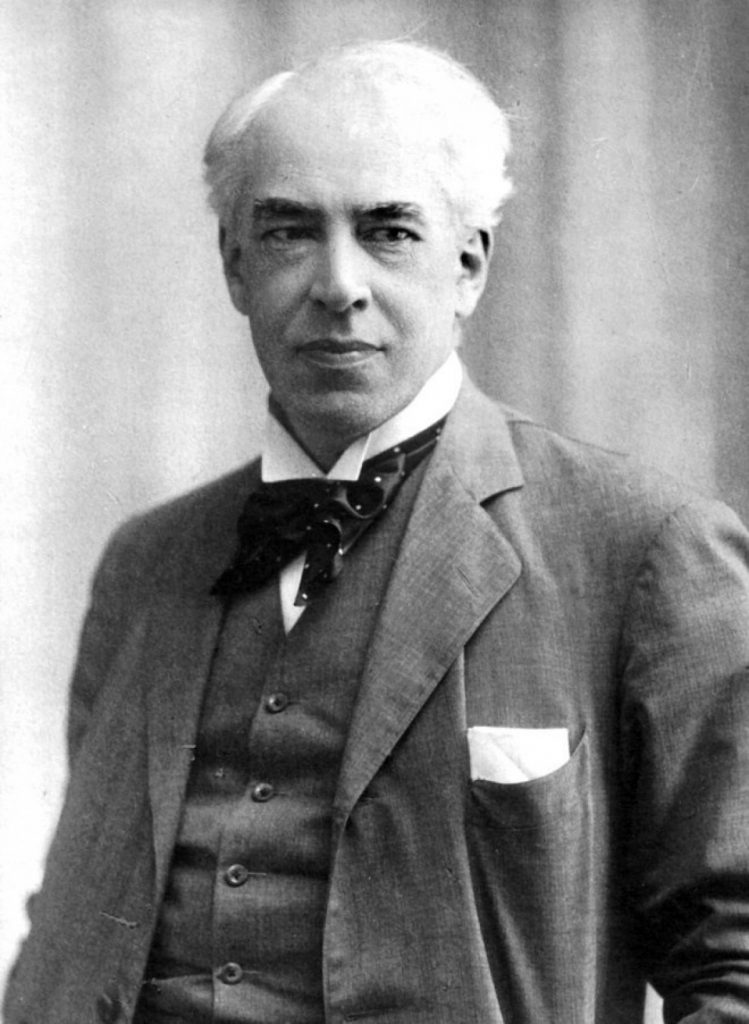 Естественно, в семье отмечались крупные православные праздники, упоминания об этом есть даже в советских изданиях «Моей жизни в искусстве».
Естественно, в семье отмечались крупные православные праздники, упоминания об этом есть даже в советских изданиях «Моей жизни в искусстве».
Я специально говорил на эту тему с крупнейшим знатоком Станиславского, ныне здравствующей Инной Соловьевой, которая утверждает, что Константин Сергеевич безусловно был верующим человеком, воцерковленным, соблюдающим посты. Подчеркну, что для человека конца XIX века это было скорее редкостью, чем правилом. Есть такая характерная деталь: когда Станиславский в пост ел квашеную капусту, то, играя на сцене, боялся, что от него этой капустой пахнет, что партнерам будет неудобно.
Еще один факт. В 1896 году Станиславский едет в Париж и пишет, что самое интересное из тамошней театральной жизни — это пьеса под названием «Евангелие в трех частях, или Самаритянка» Эдмона Ростана. Вот цитата из его письма: «Такого рода спектакль устроен для тех, кто желает молиться и очиститься душой. Несмотря на то, что пьеса не бог знает как и кем сыграна, несмотря на то, что действующие кроме Сары и Христа мало напоминают библейские времена, несмотря на то, что, наконец, я не согласен с образом и характером Христа, представленными в этой мистерии, я плакал все три акта и вышел из театра совершенно обновленным. А это “Отче наш”, изложенное в чудных ростановских стихах и шепотом произносимое Сарой среди всхлипываний публики, это до слез трогает». И в другом письме: «Подумайте, парижанин и — Христос! Знаете, чем он подкупил меня? Тем, что он был прост, ничем не собирался удивлять публику».
Соблазны профессии
 Известно, что Церковь всегда настороженно относилась к актерскому искусству, видя в нем различные духовные опасности. А Станиславскому приходилось сталкиваться с таким отношением духовенства?
Известно, что Церковь всегда настороженно относилась к актерскому искусству, видя в нем различные духовные опасности. А Станиславскому приходилось сталкиваться с таким отношением духовенства?
Это очень важный вопрос, и говорить тут нужно не только о предубежденности духовенства. Да, Станиславскому приходилось сталкиваться с запретами церковной цензуры, когда не допускали к постановке какие-то пьесы, которые, по мнению цензоров, могли плохо повлиять на зрителя.
Но гораздо важнее то, что в актерском искусстве действительно существуют свои опасности, причем опасности не для зрителей, а для самих актеров. Прежде всего, это гипертрофированное честолюбие, тщеславие, а также вытекающие из них обидчивость, заносчивость, высокомерие. Это своего рода раздвоение личности, зеркальность, когда ты сам не понимаешь, кто же ты — актер Москвин или царь Федор. То есть маска прирастает к лицу, и если ты постоянно должен что-то играть, это «что-то» продолжает влиять на тебя уже вне сцены. Я уж не говорю о ситуациях, когда приходится играть глубины сатанинские — они могут найти отзвук в гнойниках души актера, и чтобы заметить и преодолеть это влияние, нужно немало потрудиться.
Так вот, Станиславский в своих дневниках эти чувства фиксировал, он и как актер, и как режиссер изнутри понимал, что такое актерская ревность. По его словам, подчас он едва не белел от ревности по отношению, например, к Качалову.
Такие чувства верующий актер должен фиксировать в себе, осознавать — и преодолевать силой своей веры. Иначе будет плохо, иначе превратишься в завистника. И сколько мы знаем подобных завистников! Конечно, такой соблазн свойственен не только актерской профессии, но у актеров это проявляется ярче. У Станиславского есть поразительные дневниковые записи, где он выдавливает из себя весь этот гной: ревность, зависть, тщеславие, высокомерие.
Дневниковые записи — это одно, а вот исповедь — нечто куда более действенное. Известно ли что-то об этом? Исповедовался ли Станиславский?
Известно, что он говел и причащался раз в год. То есть минимум раз в год он исповедовался. Исповедовался ли чаще, не знаю. Не знаю также, был ли у Станиславского постоянный духовник. И понимаете, это нормальная ситуация, когда мы об этом не знаем. Это сейчас стало модно в социальных сетях рассказывать о своих подлинных и мнимых грехах всему свету — и такая публичность, по-моему, девальвирует цену исповеди. Не могу не вспомнить о главе, не вошедшей в канонический текст «Бесов» Достоевского — об исповеди Ставрогина, когда тот приходит к архиерею, и архиерей говорит: что-то вы уж слишком красиво написали о своем ужасном преступлении, слог уж больно возвышен.
В XIX веке цена слова, и уж тем более цена сапопризнания, была куда выше, чем сейчас. И те дневниковые записи Станиславского, где он фиксирует свои профессиональные неудачи, свою ревность, свое раздражение, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что его церковное детство, отрочество и юношество не остались ему чужды и в более зрелом возрасте.
А как, по-Вашему, можно оценивать знаменитую «систему Станиславского» с религиозной точки зрения? Есть ли в ней какая-то духовная составляющая?
Несомненно. Некоторые положения его системы религиозны, и в этом, кстати, проявляется его связь с дореволюционной русской религиозной мыслью. В частности, в период работы над своей системой он много общался с религиозным философом Иваном Ильиным. Сам Станиславский не был профессиональным мыслителем, не умел точно и ярко высказывать свои мысли. Когда молодого Ильина, работавшего в то время, в 1910-1911 годах, над диссертацией о Гегеле, познакомили со Станиславским, Ильин помог Константину Сергеевичу правильно сформулировать многие положения его системы.
Система Станиславского, на мой взгляд, глубоко персоналистичная и глубоко христианская. Скажем, играя злого, ищи, где он добрый. Пытайся даже в отрицательном персонаже увидеть зародыш образа Божиего. Это погружение в характер другого человека, пускай тебе и противоположного — и это познание другого человека, а значит, и утверждение его личности и значимости.
Такое отношение и к ролям, и к живым людям было свойственно самому Станиславскому — причем не только в профессии, но и в повседневной жизни. Особенно это стало заметно после революции, когда он заступался за репрессированных, оказывал помощь всем — от буфетчика до актера. Его письма 20-30-х годов переполнены обращениями к различным советским деятелям с просьбами за кого-то. При том, что ему приходилось бороться и за себя — он знал и аресты, и обыски, и отсутствие жилья: дом в Леонтьевском переулке он получил далеко не сразу.
Эскиз художника Н. А. Андреева к мистерии по трагедии Байрона «Каин» (МХАТ, 1920)
После революции
 Самая первая его послереволюционная постановка — это «Каин» по Байрону. Чем объяснить такой выбор — случайностью, или это было как-то навеяно временем?
Самая первая его послереволюционная постановка — это «Каин» по Байрону. Чем объяснить такой выбор — случайностью, или это было как-то навеяно временем?
Скорее, это был ответ на революционные веяния. Фактически, этим спектаклем он хотел сказать: «вот, смотрите, что вы натворили, что вы, каиниты, сделали со страной». То есть здесь никакой не апофеоз богоборчества, а предостережение — вот к чему богоборчество ведет. Впрочем, спектакль получился неудачный, прошел всего восемь раз. Кто-то сказал о «Каине»: «какой прекрасный и величественный замысел — и какая горькая потрясающая неудача». Да, неудача — но не заискивание перед богоборческой властью.
А вообще были ли у Станиславского какие-то иллюзии по поводу советской власти?
Иллюзии в той или иной мере были тогда у всех. Даже у Булгакова, уже после «Собачьего сердца», были иллюзии, что если как-то договориться с «главным», то можно будет спокойно писать, публиковаться… Сталин его десять лет на этом поводке держал.
Были иллюзии и у Станиславского — иллюзии, что можно как-то устроиться, как-то договориться, и тебя и твое дело не тронут. И вот тут — существенная разница между режиссером и писателем. Писатель может по крайней мере надеяться на то, что рукописи не горят, что твой труд спустя десятки лет дойдет до читателей. Станиславскому — режиссеру, создателю театра — в этом отношении хуже. Он понимал, что речь идет не только о его судьбе, а о судьбах всех людей, с которыми он работает уже 25 лет. Если театр закроют — они окажутся на улице, без пенсий. И да — ему приходилось идти на компромиссы. Хотя, думаю, после гибели его репрессированных родственников особых иллюзий у Станиславского уже не было.
Это в советское время. А раньше, в предреволюционные годы? Симпатизировал ли Станиславский революционным идеям?
Тогда практически вся интеллигенция в той или иной мере этим идеям симпатизировала. Среди актеров Художественного театра были и кадеты, и социал-демократы. Большевиков, правда, не было. Сам Станиславский к 1917 году вовсе не был монархистом, он надеялся на демократическое обновление, когда рухнет «прогнившее самодержавие». Замечу, что в политике Станиславский разбирался слабо, в этом отношении он был довольно наивным человеком, подверженным иллюзиям весны 1917 года.
А вот позже, в 20-е года, ему пришлось пересмотреть свои надежды. Новая власть вела себя как татарские баскаки на Руси в XIII веке, и с ними приходилось как-то договариваться, сохранять помещения театра, бороться за свет, зарплату, гардеробщиков. Какие уж тут иллюзии…
20-е годы прошлого века — это время бурной жизни в искусстве, время новаторства. А какова была позиция Станиславского? Он был за «новаторов» или «консерваторов»?
К этому времени Станиславский, будучи величайшим новатором в театральном искусстве, все же был традиционалистом — и в силу возраста, и в силу сложившейся историко-политической и культурной атмосферы. Он отстаивал традиции русского театра, русской литературы. Симпатий к футуризму, авангардизму, модерну у него не было. Это проявлялось, например, в том, с какими художниками он, как директор театра, имел дело. Это Головин, Бенуа, Рерих, Кустодиев, Ульянов, Крымов. Художники Серебряного века — да, с ними он работал. Но представить его работающим с Кандинским и Малевичем невозможно. То же касается и композиторов. Пьесы Булгакова он ставил, но вот представить себе в его постановке «Мистерию-Буфф» Маяковского я совершенно не могу.
Чему мы, современные христиане, можем научиться у Станиславского? Он нам интересен только в историческом контексте, или же сама его жизнь может послужить для нас каким-то духовным уроком?
В случае Станиславского это урок христианского отношения к лишениям. Урок смирения. Вот смотрите — к 1917 году он был руководителем образцового дела, его успехи были признаны на мировом уровне. Он был очень богат, говоря нынешним языком, почти олигарх (кстати сказать, зарплату он в Художественном театре не получал, а наоборот, вкладывал туда свои средства). И вдруг в одночасье лишился всего! Представьте современного олигарха, у которого отнимают весь его бизнес, все его сбережения, и оставляют только должность директора театра…
Так вот, Станиславский эти материальные лишения (а вдобавок и гибель родственников) пережил мужественно, действительно по-христиански. Мог бы эмигрировать, но у него был театр, за который он отвечал перед своей совестью.
Кто-то, может быть, скажет: да лучше бросил бы он этот театр и ежедневно ходил в церковь! Но вот вспомним, что на сцене МХАТа с 1926 по 1941 год 989 раз ставился спектакль «Дни Турбиных», и подумаем, а что этот спектакль тогда значил для людей. Он показывал, что правда на стороне Белой гвардии, на стороне этой уютной квартиры, а не Ленина и Троцкого, и когда-нибудь правда восторжествует. Как говорил один из героев, «для кого пролог, а для меня эпилог». Для тех, чья жизнь после 1917 года стала эпилогом, то, что в течение 15 лет они могли смотреть этот спектакль — величайшая заслуга Станиславского. Играли другие, ставили другие, а пробивал — он.
Словом, его урок — как не сломаться под ударами безжалостной эпохи, и не просто не сломаться, а спасти нужное людям дело.
Источник: «Фома»








